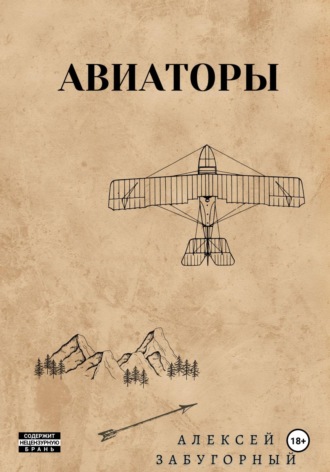
Алексей Забугорный
Авиаторы
Гномики прильнули к огню и старательно запыхтели.
Я и Барсук наблюдали восхищенно.
– Давай ловить дым и делать колечки?! – предложил он.
– Давай! – согласился я.
– Сидите спокойно, – мальчики, – распорядилась Королева. – А то не получите десерт.
– Десерт, десерт!
Мы с Барсуком захлопали в ладоши и даже подпрыгнули на бревне: «Будет десерт!»
Гномики тем временем курили, позабыв обо всем на свете.
– Кто докурит первым – получит приз! – сказала Королева, прохаживаясь между ними.
Услышав это, гномики затянулись с удвоенной силой и все исчезло в плотном, волшебном дыму. Когда дым рассеялся, только крохотные пЯточки остались в их крохотных пальчиках.
– Приз, приз! – гномики запрыгали вокруг Королевы: «Я первый!» «Нет!» «Я первый!» «Нет, я!» «Я!» «Я!»
– Тише, тише, – сказала Королева. – Успокойтесь. Вы все молодцы; все первые. А теперь садитесь и ждите тихонько. Скоро появится приз.
Гномики, обнимая и целуя друг друга от счастья, забрались на бревно, сели рядком и стали ждать.
Временами самые проказливые начинали щекотать и щипать своих товарищей, и даже сталкивать их, шутки ради, в костер, и тогда Королева грозила пальчиком и наставительно качала прелестной своей головкой, восстанавливая порядок.
Мы с Барсуком, сгорая от любопытства, наблюдали.
Наконец, все успокоились и повисла чудная, глубокая тишина.
Костер потрескивал. Стволы сказочных сосен, озаренные трепетным, теплым светом тянулись в холодную, черную высь, мерцающую алмазным блеском далеких созвездий.
Вдруг белобрысенький гномик вздрогнул. В его лучистых бирюзовых глазках застыло недоумение.
– Чтой-то…? – шепнул он соседу, – гномику в очках.
Тот глянул строго, и хотел было отчитать товарища, но прервал себя на полуслове и сам заерзал на бревне, поеживаясь, словно от холода.
– Не знаю… – ответил он, обхватив себя ручками.
Минуту спустя зашевелился лысенький гномик.
– Слышите? – чуть слышно сказал он.
– Что? – насторожился старший гномик.
– Стучит что-то, – лысый гномик указал на свою грудь.
– И у меня… – закивал рыжий гномик.
– И у меня тоже! – воскликнул гномик с перстнями.
– В чем дело? – нахмурилась Королева. – Неужели никто не хочет приз?
– Королева…, – сказал главный гномик. – Там что-то такое…
– Где? – вскинула бровь Королева.
– В груди!
– Что же такое в вашей груди? – не поняла Королева.
Старший гномик поманил ее пальчиком: «Стучит!».
– Не может быть, – Королева поглядела на него печально. – Там нечему стучать. Но я все поняла теперь. Это вы нарочно придумали, потому что не хотите быть послушными.
– Мы хотим, – отвечали гномики, – но там как-то… неправильно стучит…! – И побледнели.
– Ох уж эти фантазеры… – вздохнула Королева. – Чего только не придумают, чтобы подурачится!
– Честное слово, Королева! – тревожились гномики.
– Королева приблизилась и по очереди приложила ухо к груди каждого из них.
– Нет… – Она пожала плечами. – Не стучит. Ни у кого не стучит.
И снова вздохнула: "Я вижу теперь, что вы просто непослушные маленькие гномики, которые…"
Королева оборвала себя на полуслове: «Постойте-ка», – шепнула она.
– Что? Что такое? – заволновались гномики.
– Подождите…
Королева отвела руку, призывая к молчанию и застыла, обратив к лесу изящное свое эльфийское ушко. В глазах ее разлилась тревога.
– А и правда… Правда, стучит!
Гномики испуганно переглянулись.
– Но вот только… – Королева снова прислушалась. – Только это не в груди стучит. Это в лесу стучит! Там! – И указала во тьму.
Гномики прижались друг у другу.
– Слышите? – Королева сделала испуганное лицо.
– Что? – выдохнули гномики.
– Ночь в полную силу вошла, – заклинанием проговорила Королева, отступая на шаг. – Холодом веет…
И воскликнула, обратив к гномикам божественно-светлый свой лик: «Слышу! Слышу поступь тяжелую! То мать-сыра земля дрожит!»
Гномики задрожали. В их широко распахнутых глазках застыл ужас.
Мы с Барсуком наблюдали, забыв, кажется дышать, увлеченные происходящим.
– Кто же… – прошептал главный гномик, совладав с собой, – кто же это идет, о Королева?
Королева отступила еще на шаг. Одна рука ее нежным лебедем поднялась, словно в попытке остановить грядущее из тьмы; другая, с отведенным в сторону остреньким локотком, легла на глаза; гибкий стан отклонился, прелестная головка запрокинулась и Королева вскричала, протяжно и безысходно: «Демоны! Демоны лесные!!!»
Гномики лишились чувств и посыпались с бревна.
Несколько секунд они лежали неподвижно. Потом зашевелились, дернулись раз-другой и снова повскакивали на короткие свои ножки, тараща друг на друга испуганные глазенки.
– Демоны! – восклицала Королева страшно и обреченно. Ночь текла из ее некогда небесных глаз. – Демоны! Восстали из забытых могил! Возжаждали человечьей крови! Чую! Чую, веет холодом нездешним! Холодом замогильным!!!
Гномики заскулили от ужаса.
– То по нашу душу…, – шептала Королева.
Лицо ее стало траурным. Глаза остановились: «Нет спасенья… нет. Придут мертвецы… придут и утащат…»
– …Куда…? – застонали гномики.
Их сотрясала дрожь. Холодный пот искрился на бледных, маленьких лобиках. Они столпились у ног Королевы, будто в ней одной сосредоточилась вся жизнь их и вся надежда.
– В могилы сырые…, – ответила Королева и вдруг поникла, безвольно опустив руки, плечи, прелестную головку свою.
Голос ее оборвался, как пламя одинокой свечи на ветру. Потому что не осталось больше надежды.
– В могилы глубокие…, – осенним ветром прошелестело в отблесках догоравшего костра: «В могилы далекие».
И словно печальным эхо, уже почти неразличимо, донеслось: «На Забытый Погост».
Мрак смыкался над обреченными гномиками.
Бледным пламенем, – последним, обреченным оплотом света, – реял в ночи тонкий силуэт Королевы.
Тихо было кругом, недвижимо. И только нечто, до поры скрытое мраком, кралось среди этой тишины, приближаясь.
***
Костер пылал. Пламя рвалось из-под поленницы.
Кроны сосен, озаряемые яркими всполохами, раскачивались в токах горячего воздуха, на фоне черного неба.
У костра царила паника.
Гномики носились между огнем и бревнами, причитая, воздевая руки, в отчаянии дергая себя за бороды, выдирая из них целые клоки волос.
Они то собирались бежать наугад через лес, то молились всем богам, обещая золотые горы за избавление, то замирали, глядя прямо перед собой безумным взглядом, и вновь неслись по кругу, натыкаясь друг на друга, падая, поднимаясь, и падая вновь.
– В могилы…, – бормотали они, – в могилы глубокие… далекие… Спаси, Королева! Смилуйся!
Королева возвышалась над гномиками божественной доминантой. Совершенное лицо ее было непроницаемо. Она безмолвствовала.
Мы с Барсуком наблюдали, раскрыв рты. Ничего более увлекательного нам не доводилось видеть.
Гномики были сломлены. Королева, любимая их Королева, оказалась бессильна. Она не спасла их.
Не было мужества бежать; страх перед ночным лесом оказался сильнее. Не было воли самим положить конец всему, избегнув несравнимо больших страданий; неуместная жажда жизни лишила крепости руку.
Но еще страшнее было даже попытаться представить себя, еще живыми, под толщей тяжелой, глинистой земли, на Забытом Погосте. Это было слишком ужасно, чтобы быть правдой; это не могло быть правдой, но – только это и было правдой, и скорым исходом, а все остальное, – вся предыдущая жизнь их, – лишь дорогой к этому исходу.
Отчаяние достигло наивысшего предела. Предела, за которым было только безумие: спасительное бегство разума под сень наваждения.
И вот, когда гномики, уже полубезумные, сами не ведающие, что творят, не сговариваясь взялись за руки и двинулись к огню, чтобы навсегда затеряться в его золотых чертогах, перед ними возникла Королева и преградила путь.
На нее невозможно было взглянуть теперь: лицо, одежда ее, руки – все источало нестерпимое сияние, затмевающее свет костра, вбирающее в себя весь зримый мир. Казалось, Королева растворилась в потоках света, и только голос ее плыл над лесом, широко и раскатисто: «Остановитесь, поскребыши!»
Гномики встали, будто налетев на невидимое препятствие.
– Не губите души бессмертной! – поплыл над лесом ее властный голос. – Я задержу их! Душа моя за вас да ляжет: ибо нет большей жертвы. Вы же бегите и живите. Кровь моя да пребудет с вами!
Гномики стояли, как зачарованные, незрячими глазами уставившись в свет.
– Бегите лесами дремучими! – восклицала Королева. – Болотами топкими! Чащобами темными! Бегите, пока не окажетесь у высокой скалы! В той скале найдете пещеру глубокую. Войдите и молитесь день и ночь, тридцать лет и три года: тогда, может, спасетесь.
Мы с Барсуком зааплодировали.
– Браво! – кричал Барсук.
– Бис! – не отставал я, и приставив пальцы к губам, пытался свистеть.
Гномики же продолжали стоять. Рассудок их был повержен и смысл сказанного не являлся им, но сердца, прежде разума осиянные надеждой, указали путь.
В полном молчании гномики, пятясь, отступили от костра, а затем, так же безмолвно, спотыкаясь друг о друга, падая и поднимаясь вновь, бесформенной массой перевалили через бревно и сгрудились по ту сторону его.
Казалось, здесь решимость вновь покинула их, ибо, сгрудившись, они продолжали лежать, но голос Королевы вывел гномиков из оцепенения: «Демоны!» – воскликнула она так, что даже мы с Барсуком вздрогнули. – «Вижу! Вижу демонов! Бегите, миленькие! Я задержу их!»
Гномики, словно бы их ударило током, подскочили, охнули, а затем гурьбой рванули через поляну и скрылись во тьме. Какое-то время из леса доносились их удаляющиеся, дробленые эхом, испуганные крики и треск веток, но вскоре все стихло, и наступила тишина. Лишь костер потрескивал, и тихонько пел стоящий у огня котелок.
Королева стояла неподвижно, глядя в ночную тьму. Потом устало опустилась на бревно подле нас.
– Это было бесподобно, Королева! – восхитился я. – Позвольте ручку…
– Я в восхищении, Королева! – в тот же миг воскликнул Барсук и потянулся к другой ручке.
Королева отошла, присела на соседнее бревно, опустила лицо в ладони и замерла.
Сидела она так, кажется, долго. Я и Барсук с интересом наблюдали. Мы ожидали продолжения. Однако, продолжения все не было. Королева сидела. Потрескивал костер. Котелок шумел у огня.
Барсук наклонился ко мне конфиденциально: «Будьте добры, скажите пожалуйста, а кофе будет?»
– Кофе еще не завезли, – ответил я. – Но в котелке осталось немного чая. А кроме того, нам обещали дессерт… Так что, я думаю, никто не будет против, если мы…?
Глава 7
«…Ты-ж найди его да передай, что вещица та на самом краю земли, среди лесов дремучих, болот мертвых, да забытых погостов, под валуном у столетней сосны.
Нет туда ни троп, ни дорог, а только река широкая, что течет неведомо откуда, невесть куда: «Пусть, – сказал Васятка, – летит он вдоль реки, пока не увидит излучину, что изгибается, как боевой лук. В верху той излучины – песчаная отмель, полумесяцем. От нее путь только пешему; по полету стрелы, не сворачивая, через чащобу да болота, пусть идет до поляны, где и стоит тот валун.
Многие пытались вещицу добыть, да все они мертвы. По сей день души их ее стерегут, оставить не могут. Будут они его пытать страхом великим, искушать соблазнами непобедимыми, да только пусть не боится, и соблазнам не поддается, а берет ту вещицу и бережет до часа, как зеницу ока. А как час придет – станет он самым богатым и счастливым, и те, кто с ним. Таким образом, ему от меня благодарность».
– Да как же, – говорю, – внучок, я того паренька отыщу?
– А ты дай телеграмму в село Чайнодрищенское, задрищенского району, на имя бабки Петровны, – отвечает Васятка, – что вся черном. Она на базаре картошкой торгует. Назовись подругой юности. Скажи, что хочешь перед смертью попрощаться. А окромя того, оставляешь наследство ей: огород. Будет картошку сажать, в три дорога продавать, – выгодное дельце. Тут-то она поверит, и прилетит. Ибо уж сама не упомнит, с кем за всю жизнь дружила, с кем пересралася, но на дармовщинку позарится.
Доставит же ее тот самый паренек. Он в Чайнодрищенском на еропланах летает; возит по всей округе бабок, дедов ихних, удобрения и прочую мелочь. Ему и передай по секрету все, что я тебе рассказал. «А не передашь, – говорит Васятка, – не видать тебе нашего берега! Будешь ночами скитаться по деревне бесплотной тенью, добрых людей пугать».
И загрустил: «Уж прости, – говорит, – но такое у нас, у покойников, правило: последняя воля – что карточный долг: нельзя не исполнить».
Сказал так, ручкой помахал – и исчез.
– Тут я и проснулась, – сказала покойница. – Пошла в соседнее село, дала телеграмму, воротилася домой, – глядь – а уж стоит на крыльце Самая Главная Бабка.
– Собирайся, – говорит. – Пора.
– Да как же пора? – отвечаю. – Ведь дело у меня есть. Поручение. Пока не исполню – нельзя мне, иначе буду…
– …Не будешь, – перебила Главбабка. – О поручении твоем мне известно. Соседям накажи, чтоб не хоронили тебя, пока не дождешься тех, кого звала. Об остальном же не беспокойся. Времени даю до заката. – И на часы смотрит. – Некогда мне с тобой лясы точить. Работы много; и так из графика выбилась, пока тебя с почты дожидалась.
Легла я тогда на лавку, позвала всех соседей: «Так мол и так, дорогие. Жила я – дай богу каждому – по чести и совести… в основном. Теперь же пробил мой час. Прощаться пора. Простите, – говорю, – если кого обидела, как и я вас прощаю. А кто не простит – тому буду, такие-сякие, бесплотной тенью являться и такого страху наводить, что сами пожалеете, так вас рас так, мои хорошие.
Перед смертью же хочу, чтоб исполнили мою последнюю волю: попрощаться с подругой юности. Я уж и телеграмму отправила. До тех же пор меня чур не хоронить. А похороните – прокляну!»
– Как же так, – говорят соседи, – бабушка? Не можем мы дожидаться! Нам в город надо, на заработки. Сама знаешь, теперь такое время – день год кормит. Один только дед и останется в селе, ибо стар и бесполезен; одна морока от него.
– А и идите себе, – говорю. – Меня же омойте, обрядите, положите во гроб, гроб поставьте в избе на лавку. Вернетесь – похороните.
И померла.
Соседи обмыли меня, обрядили, положили во гроб, гроб же поставили в избе на лавку, и уехали.
С тех пор и лежу. Насилу дождалась вас. Ибо дюже тоскливо покойнику на этом свете. Особливо ночами, когда тот берег близок становится, а не достать его. Теперь, же глядишь, и упокоюсь; исполнила Васяткин наказ; все слово в слово передала. А он-то, поди, уж заждался меня, на облачке-то…»
– Все это хорошо, – отвечаю, – но во-первых – никакая мысль меня не гложет, и за околицу не метет, потому как я памяти лишен. Хотя и интересно, конечно; кто бы это я такой был, и чем занимался, и что за вещица, за которой по всему свету скитаюсь. А во-вторых, уж больно неясно: излучин на свете много. Валунов же и сосен и того больше. Поди, разберись… Кроме того – какого такого часа ждать, чтобы богатым сделаться и счастливым?
– Память к тебе вернется, – говорит покойница. – Хотя без нее, глядишь, и лучше было бы. А если не понимаешь информации – то нечего на зеркало пенять. Впрочем, скажу так: как начнут в тебя палить, то лети один день курсом тридцать три, а другой – столько же, курсом триста тридцать три. Час же сам придет.
И умолкла. Только слышно, как сверчок за печкой поет, да на огороде лопата шоркает.
– Ишь, – говорит бабка, – как шурует… – Поди, уж и соседский участок засадила своей картошкой, старая кляча.
– По осени, – отвечаю, – обещалась вернуться за урожаем. Только зачем это станут в меня палить? Я вообще-то, человек мирный, и если без стрельбы уж никак нельзя, то я, пожалуй…
– Кто-ж тебя спрашивает? – отвечает старуха. – Судьба – она сама решает, кого пожаловать, а кого и так оставить. Больше одного раза не помрешь. Кляча же пусть хоть завозвращается. Только я так сделаю, что картошечка-то вся изойдет. Ни одного клубенька не накопает, калоша.
– Это за что-ж так? – говорю.
– А так, – отвечает покойница. – Потому что нечего.
– Чего – нечего?
– А ничего нечего. Нечего – и все тут. А раз невдомек тебе, то и сам будешь, что твоя картошка. Главное же теперь не это, а то, что исполнила я просьбу Васяткину; груз с души спал. Вот уж луна за лес закатилась. Солнце силу набирает. Тянет меня к себе тот берег: и я тебя едва слышу, да и ты меня не услышишь. …Соседям же записку оставь: «Попрощалась, мол, новопреставленная раба божья Петровна с рабой божьей Петровной. Зараз можно хоронить».
– Хорошо, – говорю. – Сделаю.
– Ничего-то ты не сделаешь, – отвечает покойница, но как будто уже из далекого далека, – да и черт с тобой. А теперь – чеши обратно, пока со своими не разминулся. Ищи свое счастье…
И засмеялась этак лукаво.
– Чего смеёсьси, – спрашиваю? – Да уж она – молчок. Лежит себе, как кукла восковая, и ручки сложила. Одно только, последнее слово, будто эхом донеслось с того берега, откуда не возвращаются: «…Игорёк».
И как только я это услышал, так сразу память ко мне и вернулась: и что никакой я не Ванька, и не Васька, а – Игорь. И про наконечник вспомнил, и про Иваныча, и все-все, что было.
Тут открывается дверь и входит бабка в черном. Петровна.
– Чего, – говорит, – сидишь всю ночь с покойницей? – Так и умом тронуться недолго. Хоть бы помог старой. Спина ноет – спасу нет. Всю ночь копала.
Я аж с лавки вскочил: "Ах ты, такая-сякая! Как же мне было не сидеть с покойницей, коли ты сама от помощи отказалась? Наказала здесь быть, еще и заперла!"
Бабка только глаза выкатила.
– Мало ли, чего я говорила! Я человек старый, за слова не ручаюсь. Бес, видать, попутал, а ты и развесил уши, – такой-сякой, малохольный. А про то, что заперла, так не было того! Не запирала! Не запирала, и все тут!
– Как же, – говорю, – ни запирала, когда мне ни войти, не выйти?! Уж я дверь дергал-дергал, – чуть ручку не оторвал, а она…
Та еще шире глаза разинула
– Малохольный и есть. А еще еропланом управляешь. Ее не дергать, а толкать надобно!
И точно – подошла к двери, толкнула, – дверь и открылась!
***
– Вот какого мороку навела покойница, – заключил Игорь. – Бабке внушила ночью картошку сажать, а мне – дверь не открыть. И все, чтобы со мною с глазу на глаз побеседовать.
Костер догорел. Я взял несколько дровин и положил поверх рдеющих углей. И без того слабый свет померк, и темнота обступила. Небо над лесом было низкое, непроницаемое. Ни одной звездочки не светилось над соснами.
– Надеюсь, записку ты оставил? – спросила Агата. – На счет старухи?
– Да вот про записку-то я и забыл… – замялся Игорь. – После всего, что было-то… Да похоронят они ее и так! Не вечно же ей в избе лежать…
– Почему-то я даже не удивилась, – ответила Агата.
Прошлой ночью после бегства каторжников Агата снова ходила в лес за травами и приготовила новый отвар. Мы выпили, и галлюцинации прекратились. Вскоре мы уснули и проспали до обеда следующего дня. Теперь, когда сознание прояснилось, воспоминания о событиях прошлой ночи в их истинном свете приводили в смятение.
Дух мой был угнетен, сознание подавлено, чувства взвинчены. Я был тревожен и мнителен. Мне казалось, разбойники вернутся, чтобы расправиться с нами. Вспоминая, какой восторг вызвал во мне рассказ беглого каторжника о своих похождениях, я готов был усомниться в целостности собственного рассудка. Волны паники накатывали, когда казалось, что Агата вновь начинает светиться, или из леса бесшумно появлялась хрустальная сова и садилась на плечо.
Игорь был в похожем состоянии. Глаза его бегали, он вздрагивал и оглядывался боязливо.
Агата успокоила нас, сказав, что это пройдет, а после всего, что приняли каторжники прошлой ночью, они не скоро оправятся, и уж точно не вернутся.
– Когда я увидела порошок, – рассказывала она, – я вспомнила о Варфоломее, – помните? Который переел мухоморов. А у Князя (Анатолия Васильевича Воскобойникова) в кисете как раз были мухоморы, только тертые. И у меня появился план: если мухоморы принимать в малом количестве, они придают сил. Но если переборщить… вы сами видели вчера, что бывает. Тем более, в котелке были не только мухоморы…
Агата рассказывала, что, уйдя в лес за травами для чая, она действительно набрала трав, но не душицы и зверобоя, а таких, «которые лучше не трогать», и еще кое-каких грибочков, – из тех, что тоже «не к столу». Присовокупив к этому содержимое кисета, Агата вернулась на поляну, и заговорив зубы каторжникам, всыпала все в котелок.
– Главное, – продолжала Агата, – войти в резонанс с сознанием реципиента. Не важно, что при этом говорить. Главное – частота и размер звучания. Так что, мне не на долго удалось их оглушить бреднями про рыбалку, а остальное было делом техники.
Кисет Агата вернула Анатолию Васильевичу; там оставалась лишь горсть порошка, – которую он сам высыпал ей в ладонь. Остальной порошок уже запаривался в котелке; кисет же был набит сухим мхом.
Затем Агата напоила нас… всех
– Зачем ты нам дала пить? – спрашивал я. – Если знала, что там опасный яд?
– Ну, во-первых, не совсем яд, – отвечала Агата, – а во-вторых, нужно было, чтобы вы выпили хотя бы немного, чтобы наши друзья ничего не заподозрили: вы же сами помните, какой был вкус… курятина с аспирином. А когда вкусовые рецепторы замкнуло, и им стало все равно, пили уже только они одни, а вы просто играли в гномиков. Пока они не решили подкрепиться.
Мы с Игорем вздрогнули. Из всех это было самое ужасное воспоминание.
– А дальше вы знаете, – закончила Агата.
Она рассказала, как пожертвовала газетой Игоря («все равно статья была написана из рук вон плохо»), чтобы сделать самокрутки, как ей удалось, наконец, довести разбойников до нужной кондиции и избавиться от них.
Игорь зябко поежился: "И что теперь с ними будет?".
В ответ Агата пожала плечами: "Не знаю. – Сейчас они бегут через тайгу и не остановятся, пока не найдут скалу с пещерой".
– А потом?
– Останутся жить в ней, конечно. – Агата помолчала. – А вообще, после всего, что они приняли… Возможно, кто-то из них сойдет с ума. Или до конца жизни будет страдать от галлюцинаций… или станет шизофреником… я не знаю, как именно это работает…
Она посмотрела на нас как ни в чем ни бывало и добавила: «в любом случае, сюда они точно забудут дорогу».
Мы с Игорем притихли.
– Послушай, – сказал я наконец, – а ты… ну… не слишком ли жестко с ними обошлась?
– Они тебя сожрать хотели, Йорик! – округлила глаза Агата. – И улыбнулась невинно: "но обломились".
Остаток дня мы сливали солярку из вахтовки и таскали канистры к аэроплану.
Агата сказала, что лучший способ справиться с последствиями вчерашнего – обильное питье и физический труд. Питье она взяла на себя, в третий раз сходив в тайгу и приготовив целебный отвар. Мы же челночили между аэропланом и вахтовкой, с канистрами, так что к вечеру не чувствовали ни рук, ни ног, зато достаточно оправились от пережитого, чтобы продолжить путь.
Впрочем, солярки оказалось не много. После того, как мы слили все, до последней капли, в наших баках оказалось лишь немногим более того, с чем мы взлетели вчера, и мысль о предстоящем отлете омрачала радость избавления от пережитой прошлой ночью опасности.
В вахтовке, помимо прочего, не представлявшего ценности, мы нашли старый бушлат, шапку, рваное одеяло, саперную лопатку, аптечку и компас.
Бушлат и шапка были теперь на Агате. Хрупкая, божественно-утонченная, она сидела, поправляя шапку, сползавшую на глаза, в бушлате с закатанными рукавами, протягивая к рдеющим углям зябкие ладошки. Я накинул на плечи одеяло. Игорь укрылся спальником. Он только что окончил рассказ о мертвой старухе.
Дрова, которые я давеча положил в кострище, вспыхнули. Пламя осветило поляну, наши лица и аэроплан с белесыми от инея крыльями, стоящий неподалеку.
– Да, – вздохнул Игорь, – так все и было. А дальше – прилетели мы в Чайнодрищенское. Петровна пошла восвояси, я стал чехлить аэроплан. И только зачехлил, как увидел вас! Прямо над аэродромом. Все, как старуха сказала. Я тогда написал Иванычу записку, что, мол: «Спасибо за все, ухожу по собственному желанию», – потом заскочил домой, собрал шмотки, и – к вам, на луг… Кстати, дай-ка мне карту.
Игорь долго сидел, склонившись над истертым по сгибам листом бумаги.
– Излучина приметная, —сказал он. – Должна быть видна издалека. Главное, чтобы погода была не как сегодня.
Он почесал нос.
– Отсюда азимут наконечника триста тридцать три… лететь столько же, сколько вчера… Кто точно помнит, во сколько мы вылетели?
Учитывая обстоятельства, никто не знал точного времени, но было это после полудня, и по самым скромным подсчетам мы провели в воздухе не менее пяти часов.
Далее, зная количество топлива в баках и расход, выходило, что солярки нам с натяжкой хватит лишь в один конец.
Я предлагал не рисковать, а отыскать какую-нибудь деревню, где мы сможем заработать немного денег, заправиться и подготовиться как следует, чтобы вернуться и продолжить поиски.
Игорь возражал, что сейчас не сезон, и заработать вряд ли удастся. А главное – если завтра погода не улучшится, и придется, как и вчера, лететь в облаках, мы едва ли сможем снова отыскать место сегодняшней стоянки, – нашу отправную точку, – а без него не найдем и излучины.
– Что ты предлагаешь? – спрашивал я. – Остаться где-то у черта на куличиках, без топлива, без продуктов, без теплой одежды, накануне холодов? Как мы выберемся?
– Что-нибудь придумаем – отвечал Игорь. – Может, поблизости будет деревня. Тем более, сторож сам писал, что он родом из тех мест. В крайнем случае, построим плот и сплавимся по реке.
– Сторож сказал, что его села давно уже нет, и дороги к нему заросли, – напомнил я. – А реки в тех местах текут на север. Где только тундра и ледовитый океан.
Мы долго спорили, не уступая друг другу, почти ссорясь. Я настаивал на возвращении. Игорь сетовал, что старики могут нас опередить, и действовать нужно незамедлительно, тем более теперь, когда мы так близко к цели.
Я надеялся, что Агата, которая всегда отличалась благоразумием, встанет на мою сторону, но, к изумлению моему, она поддержала Игоря: «Я уже говорила, что если Иваныч один раз нас нашел, – значит, найдет снова, и неизвестно, повезет ли нам, как вчера. А если он первым доберется до наконечника? Если у него в руках окажется вся власть? Ты об этом подумал? Иваныч не такой, как мы, Йорик! Если он станет Царем, то в лучшем случае, до конца жизни упрячет нас в темницу.
– Но как он до него доберется? У него же нет карты! Да даже если бы и была, – как он найдет излучину? Мы даже с картой не знали, где она…
– Мы только думаем, что карты нет. Может, он успел сделать копию. Я ничего и не знаю о ней, но обычно такие важные бумаги редко хранят в единственном экземпляре. Потом, – ты же помнишь, – Аркаша раньше был штурманом. Может, он все-таки рассчитал что-то, и тогда…
– Но почему тогда они сразу не полетели за наконечником, а гонялись за нами все это время? – не понял я.
– Этого я не знаю, – сказала Агата. – Но в любом случае, лучше нам и правда закончить дело скорее. Так у нас при любом раскладе будет больше шансов выжить.
И чтобы успокоить меня, добавила: «Я всю жизнь прожила в тайге. Если вести себя и действовать правильно, она тебя не убьет. А до людей рано или поздно мы доберемся».
– Во-во! – подхватил Игорь. – Может даже, в самое ближайшее время.
Он усмехнулся беспечно, но во взгляде его сквозила тревога.
***
Она не останется со мной, когда все закончится. Ей станет тесно в комнатах со старинной мебелью. Дом под кленами будет навевать скуку. Хрустальная сова окажется бесполезным свидетельством чужого тщеславия. И путь на велосипеде до парка и обратно, вместо бескрайних просторов, открытых теперь… Нет. Она не останется.
При всей своей безыскусности Игорь, по крайней мере, обладает жизненной энергией и долей авантюризма, которых нет во мне.
То, что для меня – испытание, для них – привычный образ жизни.
Я стремлюсь к статичности и определенности. Они живут движением, спонтанностью.
Жизнь по распорядку их доконает так же, как меня – извечный бег, когда, просыпаясь утром не знаешь, где окажешься на закате… если останешься жив.
Они не нашли места в обществе, которое считает себя нормальным, потому и скитаются. В этом для них больше правды, и больше жизни, и – кто знает, кто из нас на самом деле прав. Если они и найдут свой наконечник, то вряд ли их это остановит надолго. Скорее всего, пройдет немного времени, и они снова отправятся куда-то, искать свое счастье.
Не знаю, что меня ждет. После того, что я пережил с Агатой, вряд ли я смогу с устроиться с другой. Огонь, опаливший и чуть не уничтоживший меня, не повторится. Потому что я сам не выдержал бы. Ее жизни с избытком было бы тесно со мной.
Когда-то давно, в другой жизни, мой отец сказал, что я – редкостный болван. Наверное, так и есть. Я действительно болван, который мечтал приручить сильфиду, но стал лишь ступенькой на ее пути. Которому остается держать курс триста тридцать три и надеяться что когда придет время снижаться, в облаках под нами не окажется пресловутых синих гор.
Так я думал, поглядывая на компас и вариометр, подбирая шаг винта и вслушиваясь в рев мотора. В баках была солярка, поэтому он не выдавал большой мощности, и мы летели невысоко.
Я видел глаза Агаты и Игоря в зеркальце. Им было тесно вдвоем в узкой кабине, поэтому перед вылетом пришлось демонтировать ручку управления и педали.
Низкий, рокочущий гул убаюкивал. Аэроплан словно застыл в серой облачной мути, и только приборы указывали на то, что мы действительно летим.
Я почти не спал накануне.
Ночью ударил заморозок и холодный туман плыл над поляной, где мы остановились, убеляя инеем поникшие травы, аэроплан и одеяло, под которым я трясся от холода.
Я не верил рассказу Игоря. Я понимал, что скорее всего он придумал все, чтобы оправдать свое бездействие и удивлялся, что Агата при всей своей рассудительности приняла его историю за чистую монету. Я знал, что мы ничего не найдем там, куда отправляемся. Что все мечты о власти, несметном богатстве и счастье, все дерзновения и упования наши обернутся отчаянной попыткой просто остаться в живых.
Я видел нас, замерзающих среди болот и тайги; умирающих на дне забытой охотничьей ямы; убитых другими беглыми каторжниками; гибнущими от голода; тонущими в болоте… видел наши обглоданные волками кости…
Предчувствия, одно мрачнее другого, сменяли друг друга, полнили душу тоской, безысходностью и страхом, так что под утро я готов был встать и со всей ответственностью, – на сей раз окончательно и бесповоротно, – заявить, что ни за что, ни за какие сокровища мира я не полечу дальше, и – плевать, что обо мне подумают.
Под утро я все же забылся сном, а когда вновь открыл глаза, Агата и Игорь уже собирали вещи и низкие облака снова, как и вчера, тянулись, скрывая бледное, негреющее солнце, встающее за лесом.


