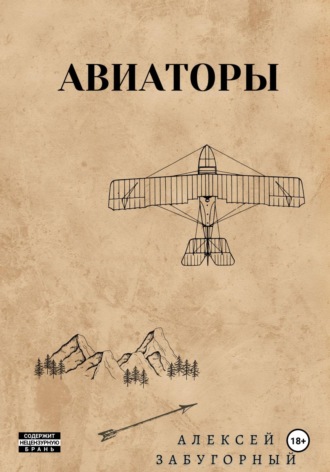
Алексей Забугорный
Авиаторы
– Cle-e-e-e-ared…. To-o-o….. Lign U-u-u-up….. !!!! – взвыл Селиванов, превратившись в черный смерч. – Cle-e-e-e-ared … Fo-o-o-o-or…. Ta-a-ake O-o-o-o-off!!!!! – прогремел его властный голос, и Селиванов, оторвавшись от земли, завис над лугом.
Ветер рванул с новой силой; девичьи волосы стлались за ним, как водоросли на дне быстрой реки, и сами они подняли руки и стали ловить что-то в пространстве скрюченными пальцами. Казалось, миг – и они понесутся над лесом, все выше, – туда, где только черное небо и кровавая луна; где всегда – минус шестьдесят шесть; где срываются с орбиты звезды, полосуя небо огненным следом, проклиная земное тяготение за свою яркую, но недолгую жизнь.
И вот, когда девки, казалось, уже были там, откуда нет возврата, – на самой вершине угла гроба, – Селиванов, обернулся к авиаторам, которые заворожённо наблюдали, сами невольно раскачиваясь в кабинах, и беззвучно, одними губами произнес: «От винта!!!»
…Вмиг стих ветер. С девок точно сдуло давешний морок. Они все еще были неподвижны, но веко самой старшей и крупной из них – Аграфены Говновой – приоткрылось, и из-под века этого глянул цепко и подозрительно золотисто-желтый глаз.
Селиванов побледнел.
Накрапывающий дождь тихо стекал по его изможденному, высокому лбу, впалым щекам, и капал с беззащитно-заострённого подбородка.
Заклятие не подействовало. План побега провалился. Все было напрасно.
– Тикааай, сссууукииии!!! – заорал Селиванов, прыгнул в сторону, и схватив лежащее подле бревно, с размаху огорошил им Аграфену по макушке.
Бревно с треском переломилось. Аграфена, глядя прямо перед собою, медленно накренилась, но не упала, а осталась сидеть в траве, как пизанская башня.
– Заводиии!!! – взвыл Селиванов, и принялся отчаянно размахивать остатком бревна.
Девки надсадно ухали, хлопали недоуменно белесыми ресницами и разлетались, как гигантские кегли.
Мотор головной машины, где был Цыган, низко загудел, чихнул, винт качнулся, шагнул раз, другой, и рванул по кругу.
Через секунду то же произошло с остальными аэропланами. Низкий рокот наполнил поляну. Моторы работали ровно, без сбоев и выхлопа; только легкокрылое спиртовое пламя рвалось из патрубков.
Леденящий вой поднялся и поплыл над лугом, перекрывая звук двигателей. То были обманутые девки. Для которых не оказалось ни звезд, ни неба, ни загадочных фраз, а только извечное их село, лес в дождях, и последний шанс на короткое счастье, готовящийся дать деру.
Счастье, могущее быть «ихним», если бы не…
– …О-о-он!!! – взревела Говнова, шатко поднимаясь из травы и выставив толстый палец в сторону Селиванова: «Его держи!!!» – И снова повалилась.
Разбросанные Селивановым девки вставали, трясли головами, терли ушибленные бревном щеки, и по-кошачьи ловко, – пугающе ловко и хищно крались в высокой, мокрой траве.
Одни из них взяли в кольцо Селиванова. Другие окружали аэропланы. Я, до времени не замеченная, наблюдала эту картину сквозь сетку осоки, тростника, и прочей луговой дряни и ясно понимала, что мне конец.
К лесу не пробраться. Через село тоже не уйти; кругом девки. Аэропланы готовятся к взлету, который чем бы ни кончился (авиаторы либо поднимутся в воздух, либо погибнут, пытаясь) означает лишь одно: скоро я останусь одна. Я. Водившая дружбу с Селивановым. Как и Селиванов, неизвестно откуда взявшаяся со своей худой спиной, тонкими ногами и тощей жопой. Я, починившая аэропланы. Я, один на один с толпой обезумевших, жаждущих мести, переплавивших орала вожделения на мечи, факелы и вилы девок.
Тогда-то мне стало страшно. Так страшно, как никогда еще не было. Пещерный, животный ужас мало пожившего тела, которое сейчас будут рвать на части.
Скверное чувство…
Не понимая сама, что делаю, я сжала виски ладонями, упала на колени, склонилась к сырой земле и завизжала яростно и остервенело, но – беззвучно…
Обреченный Селиванов держался, как мог. Стараясь не подпускать девок слишком близко и не давая им зайти с тыла, он все размахивал своим бревном; но бревно было слишком коротко, девок слишком много, а сам Селиванов слишком мало был приспособлен для ратного дела. Я видела, как дрожат его слабые руки; как вздулись синие вены на бледном, высоком лбу; как слабеют удары, от которых девки уже не ухают, не разлетаются, и не гудят, как церковные колокола.
Круг их неуклонно сужался. Уже Аграфена Говнова, скользнув под бревно, укусила его за бедро – и штанина латаных брюк потемнела от крови; уже Евлампия Гроб-Копыто, сиганув над бревном, дотянулась до селивановой головы, – и жидкие его волосы потемнели от крови; уже Аделаида Прыщ, извернувшись, отгрызла ему палец, – и бревно покраснело от крови.
Селиванов понимал, что долго ему не продержаться. Что нет времени остановиться хоть ненадолго, чтобы встретить смерть с гордым достоинством. Поэтому он лишь перехватил бревно, собрал остаток сил и, взыграв желваками, размахнулся было, чтобы напоследок покрепче достать Говнову, которая рвалась к нему с особым остервенением, но искалеченная рука подвела; бревно выскользнуло и, кувыркнувшись в воздухе, скрылось в траве.
Тут же самая тощая из девок, Серафима Не-Пришей-Рукав, подкравшись со спины, кошкой сиганула Селиванову на плечи и вцепилась в лицо.
Говнова, взвыв торжествующе, ринулась к нему; остальные бросились следом, и Селиванов исчез под извивающейся массой мокрых волос, зубов, грязных пяток и холщевых рубах…
Аэропланы с работающими моторами стояли по брюхо в траве, и трава стелилась за ними волнами. Парни спали под дождем, сморенные самогоном. Селиванова не было видно; все скрыла трава…
Девки, утирая окровавленные руки и рты о подолы рубах, бродили по полю, не сводя глаз с авиаторов.
А дальше – словно в пошлой оперетке; много штампов, поэтому совсем как в жизни.
Я поднялась из травы и, заплетаясь ногами в мокрой, до пят, юбке, побежала к аэропланам. В тот же миг из кабины выскочил Игорь и побежал ко мне.
Были девки, настигающие нас. Пьяный Аркаша, гоняющий их по полю аэропланом. Чья-то рука, вцепившаяся в расчалку. Разводной ключ в моих руках… Кутерьма и неразбериха.
Был взлет в тесной кабине, поперек узкого луга, обреченный на провал, но все-таки состоявшийся, навсегда засевший в памяти…
Перед тем, как лечь на курс, Игорь сделал круг над поляной. Он должен был. Ради меня. Ради Селиванова.
В последний раз я увидела свое село. С высоты оно совсем не казалось всепоглощающе-безысходным; сгусток грязи и бревен посреди изумрудно-зеленого леса. Зато лес был по-настоящему безграничен. Он был бесконечен. Как и Река, чьи воды не знали того, что было, и не заботились о том, что будет, потому что текли слишком долго, слишком далеко.
В какой-то момент мне даже захотелось вернуться снова на землю, чтобы не пропасть бесследно в этом бескрайнем, не помнящем себя пространстве; но там, на земле, были холщевые рубахи, и пустые бочки; амбар на краю луга и дурачок на паперти, и… я всегда буду стараться забыть, но всегда буду помнить: бурые пятна на траве, оторванный, напитанный темной влагой рукав плаща – и белая как снег, кисть руки, нелепо, изломанно торчащая из рукава…
***
Был еще день, но пространство уже утомилось; атмосфера исходила зноем, стрекотом кузнечиков и ощущением чего-то безвозвратно упущенного.
Агата сидела, прислонившись божественно-стройной спиной к ветхой кирпичной кладке и с видом ботичеллиевской грации покуривала свою трубочку.
– Это ужасно… – сказал я, впечатленный ее рассказом. – То, как ты жила все это время, и все, что случилось… особенно с Селивановым… Наверное, после того случая у тебя страх взлетов?
– Да нет… – отвечала Агата. – Просто у меня, как позже выяснилось, совершенно нет данных к пилотированию. – Моторы, и вообще техника – да, но летать…
Она затянулась и протянула мне трубочку. Я отшатнулся.
– Но ты же говорила вчера ночью… – начал было я.
– Идти мне было некуда, – продолжала Агата, словно бы не расслышав, – поэтому я осталась в труппе. С тех пор много воды утекло. Мы много где побывали. Переезжали с места на место и за скромную плату катали народ.
Впрочем, я не была обузой. Как я уже говорила, после модификации моторы могли работать почти на чем угодно. Это сильно упрощало жизнь, но и лишало Иваныча предлога избавиться от меня.
– Зачем ему было избавляться от тебя? – удивился я.
– Не спеши, – сказала Агата, – до этого мы еще доберемся.
– Мне было не просто освоиться в новой после Села жизни, – рассказывала Агата, – чтобы облегчить адаптацию, Игорь познакомил меня с мобильным интернетом, основами аэродинамики и научил целоваться. Последнее меня мало занимало, но вот аэродинамика, а тем более мобильный интернет очень пригодились.
Я подписывалась на онлайн курсы, участвовала в семинарах, читала статьи, ставила лайки, и постепенно у меня скопилось всякого; онлайн-сертификат моториста, филолога, юриста, программиста, водительские права, удостоверение сотрудника комитета национальной безопасности, орден свидетеля Бога Шивы, членский билет Урюпинского клуба уфологов и диплом петербургского университета гражданской авиации.
Новый мир открывался мне. После фундаментальной завершенности бытия, к которому я привыкла в Селе, я словно бы в сон пьяного шизофреника попала; если честно, несколько раз была на грани, но – выкарабкалась, приспособилась и научилась ничему не удивляться.
Вечерами после полетов я рассказывала Игорю о том, что узнала за день, а он делился чаевыми и лез рукой мне под одежду.
Так мы и жили, и жили бы дальше, но однажды ночью Игорь ворвался в нашу с ним палатку сам не свой. Его глаза были исполнены гнева, лицо перекошено, кулаки сжаты. Какое-то время он не мог говорить от возбуждения, а только скрипел зубами, сопел и грозил окружающей тьме.
Путем всевозможных ухищрений мне удалось успокоить его, – по крайней мере настолько, чтобы он смог поведать о причинах своего ажиотажа. И Игорь рассказал то, чему свидетелем он стал совершенно случайно, и что в корне изменило нашу (а теперь и твою, Йорик) жизнь.
Прогуливаясь вечером по берегу Почай-реки, или – «Почайной», как называли ее местные жители, – Игорь увидел, что угли бивачного костра еще тлеют. У углей сидели Иваныч и Аркаша. За ними давно уже водилась привычка пропускать перед сном стаканчик, и Игорь логически рассудил, что именно этим они теперь и заняты.
Надо знать Игоря, чтобы понять, что он не мог пройти мимо. Он решил напугать выпивавших, внезапно выскочив из темноты. Не самая яркая идея, конечно, но – нужно знать его.
Игорь подкрался незамеченным к самому кострищу и стал дожидаться подходящего момента. Однако то, что он услышал, заставило его сначала отложить, а затем и вовсе позабыть о своем предприятии.
Я расскажу тебе все, что Игорь рассказал мне, Йорик. Но, чтобы тебе было понятнее, для начала расскажу об Иваныче; кто он, откуда и как с ним случилось все то, что случилось.
Кстати, ты можешь еще выпить: на трезвую голову такие вещи вредны…
***
Когда-то давно Иваныч был летным инструктором в аэроклубе. Работал долго, но, как это бывает, ничего не заработал. Была у него комната в общежитии, и – все. Семьей он так и не обзавелся и жил бобылем.
Потом клуб закрылся. Остались только старые самолетные колеса и три никому не нужных аэроплана, которые пылились на задворках еще с советских времен.
Известно, чем бы все это кончилось (алкоголизмом), если бы в один прекрасный день Иваныч не получил извещение. В извещении сообщалось, что двоюродная сестра его несколько лет назад пропала без вести и теперь признана умершей.
Иваныч действительно знал, что у него есть такая родственница, но и только. Они виделись всего один лишь раз, в детстве, и все, что он запомнил – это розовый бант, который его ужасно злил.
Говорилось также, что Иванычу, как единственному родственнику, достается жилплощадь покойной. Ему предписывалось явиться по месту бывшего ее жительства, чтобы вступить в наследство.
Иваныч вздохнул, покачал головой, но выгода от сестриной погибели в его нынешнем положении была очевидной, так что он, недолго думая, выпил за упокой ее души и собрал чемоданчик.
Уже на месте Иваныч узнал, что вместе с сестрой пропал также ее муж и брат мужа. Шуму было много, но поиски результатов не принесли.
Как бы то ни было, Иваныч стал собственником жилья в тихом местечке по улице Лободы, что напротив краеведческого музея.
Разбирая хлам, которым была завалена тесная квартирка и попивая «Кружку Свежего», он наткнулся на толстую тетрадь. Тетрадь была разрисована фломастерами, обклеена ленточками, бумажными сердечками и прочим вздором.
Это был дневник сестры. Один, в пустой квартире, с дневником в руках Иваныч испытал тоскливое чувство, – как будто сама сестра смотрит на него пристально и с укоризной, но – любопытство взяло верх, и он принялся за чтение.
Он узнал, что Марья, – так звали сестру, – была по образованию филолог, но работала не по специальности, а смотрителем в том самом музее, рядом с которым жила. Не любила все «материальное», поезда и плохих людей; любила квашеную капусту, стремилась к духовному и мечтала о новой, просторной квартире в центре.
Муж ее, – сторож все в том же музее, – был человек простой и даже темный, но доброй души и бесхитростный. Жену свою любил до беспамятства и называл не иначе как «Звезда Моя».
Новой квартирой он ее, конечно же, не мог осчастливить, и свое финансовое бессилье компенсировал романтикой.
Романтика заключалась в том, что примерно раз в неделю, по выходным, он подходил к жене и с загадочным видом говорил: «Звезда моя! Опять белочка прибегала; все по сосне скакала, да кажись, что-то обронила. Ты бы пошла, поглядела…»
Марья вздыхала украдкой и тащилась в сквер за музеем, у вечного огня. Там, в отдаленной его части, у глухой музейной стены, росла сосна с сильно изогнутым стволом. В стволе же, на высоте чуть более человеческого роста, был дупло. Марья просовывала в дупло руку и вытаскивала то стеклянные бусы, то кулек леденцов, то кружевной платочек.
Все это собиралось дома в пакет, который раз примерно в полгода Марья тайком от мужа выносила на свалку. «Летом еще ничего, – писала она, – но зимой, когда мороз и бураны, к сосне не подобраться: приходится ползти через сугробы, загребая ботинками снег, что нередко приводит к насморку и иногда – к воспалению легких».
Как ни тяготилась Марья «белочкой», приходилось молчать и терпеть: «он ведь так старается», – жаловалась она дневнику.
Несмотря на то, что муж любил Марью до отчаяния, главным человеком в ее жизни, ради которого она сама жила, дышала и терпела все тяготы, был не он. Главным и единственным ее человеком был известный в городе археолог, профессор, автор многих научных открытий, инициатор бесчисленных экспедиций, «многажды восхищаемый», «зело любимый», «паче чаяния благолепный» и – «непревзойденный ёбарь» (да-да, прямо так и было написано) «Модестушко Петрович – Ясно Солнышко», или просто – «Модя».
Говоря человеческим языком, – Марья была любовницей некоего профессора Модеста Петровича Бенедиктова.
В дневнике подробно описывалась «вспыхнувшая много лет назад страсть», «невозможность возможности», «замкнутый круг роковой судьбы», «неискупимая вина перед мужем», и все это вперемежку с «ясными зореньками», «красными покрывалами заката» и «загадочной, непостижимой луной».
Здесь Иваныч, поминая розовый бант, сходил на балкон, выкурил две сигареты подряд и достал из холодильника еще «Кружку Свежего».
Как бы ни было тяжело бедному Иванычу, ближе к концу тетради все же обнаружилось нечто интересное.
Марья была явно в сильном волнении, когда писала. Почерк скакал, страницы не были украшены, как раньше, виньетками, ангелочками и прочей пошлостью, а смяты и все в кляксах от слез.
Марья рассказывала, что вернулась из археологической экспедиции, в которые она отправлялась каждое лето со своим профессором, – вместе копать и развратничать (в одной из таких экспедиций, в глухой тайге на краю мира, они и познакомились). Что там, де, профессор открыл ей некую тайну, но произошло непоправимое; что теперь на ней лежит груз, что мир узнает… В общем, снова – «бант».
Если коротко – речь шла о некоем предмете, полумифическом древнем артефакте, который считался утерянным давно и безвозвратно, так что и в само его существование почти никто из серьезных ученых уже не верил. Профессор же верил. У него даже имелись кое-какие выкладки на этот счет, вполне серьезные. И район поисков той, последней экспедиции, был выбран им не случайно: после многолетних исследований профессор рассчитал наконец с большой долей вероятности его местонахождение.
Чтобы не привлекать внимания, официальной целью экспедиции была названа раскопка каких-то незначительных черепков в таежной глуши. И только Марье он под большим секретом поведал об истинном ее назначении.
Согласно преданию, артефакт обладает необычайными свойствами. Когда-то, в незапамятные времена, он принадлежал некоему царю, «самому могущественному из когда-либо бывших». Могущество же свое он стяжал не умом, мудростью, добродетелью и другими не модными вещами, а волхованием, манипуляциями с духами и прочей бесовщинкой. Он якобы получил огромную силу в обмен на что-то ценное для даровавших ее, которую и заключил в совершенно неприметной с виду вещице; наконечнике стрелы.
На всех изображениях царя, которые когда-либо существовали, он был представлен с кулоном на шее. В нем-то, как говорят, и хранился наконечник. Сила заключенная в наконечнике дала царю власть над всеми живущими, бросила к его ногам сокровища земли и силы небесные; по мановению его руки горы сходили с места, моря расступались, бури усмирялись…
В общем, все у него было, кроме разве что бессмертия. Ну, а как пришло время помирать, – удалился царь в места пустынные, спрятал наконечник и опутал его заградительной магией, чтобы никто и никогда больше не смог бы сравняться с ним ни в силе, ни в величии.
Все это под строгим секретом профессор поведал своей филологичке, и вот почему: он хотел быть не просто царем, а царем, у которого есть царица. Она. «Девочка с бантом».
Далее шло описание экспедиции и, как обычно, любовных сцен, но главное – спустя время они действительно нашли его! В каком-то дупле (интересная параллель), на окраине древней, разоренной деревни.
Это было последнее вразумительное из всего написанного. Далее следуют обрывки мыслей, восклицания, строки особенно сильно размыты, а где-то и вовсе вымараны, но одно ясно: из экспедиции профессор не вернулся. При чем, Марья говорит об избавлении от страшной участи и неизбежном крахе, который ждал бы его. Себя же называет то преступницей и падшей женщиной, то святой и спасительницей, взявшей на себя всю тяжесть бремени, готовой, если нужно, жертвовать и повелевать, и в конце концов признается, что больше всего боится стука в дверь.
Однако, опасения не подтвердились. Ее не замели. Я взломала базу данных министерства внутренних дел из одного интернет-кафе, и узнала, что согласно заключению судмедэкспертизы причиной смерти профессора стала остановка сердца во сне. Чушь, конечно. Скорее всего, она его просто придушила каким-нибудь старым мешком.
Как бы то ни было, Марьюшка осталась вне подозрений. Казалось бы, – здесь-то ей и зажить припеваючи, но – нет. Пережитое слишком потрясло ее. Марья жаловалась, что не может носить в себе «это» в одиночку. Что содеянное тяжким бременем висит на сердце. Что предстоящая роль царицы слишком тяжела, но отказаться от нее еще тяжелее. Что ей как воздух нужен человек, способный разделить бремя власти над миром. Родственная душа. Чуткий друг и советчик. Рассказывала, как любит ее муж и как несправедлива она была к этому «святому, человеколюбивому человеку», который один может понять, простить, забыть и идти рука об руку в новую жизнь.
Последние ее слова: «Иду – к Ивану (так звали мужа). Пусть провидение рассудит нас».
На этом записи обрывались.
Иваныч закрыл тетрадь, подивился тому, что уже далеко за полночь и задумался.
С одной стороны, люди пропали, и это факт. С другой – то, о чем писала покойница, было слишком уж необычно.
Что же случилось на самом деле? Убийство на бытовой почве и бегство вместе с мужем и, возможно, с его братом (хотя, при чем здесь вообще брат)? Или действительно наконечник существует и заставляет людей творить страшные вещи? Вопросов было явно больше, чем ответов.
В конце концов, Иваныч решил, что это не его ума дело, и вообще, уже поздно и пора на боковую: «Дневник, конечно, никому показывать не стоит. Квартирку же лучше все-таки продать; от греха подальше. Хотя… если это правда… и действительно можно овладеть такой силой… Заманчиво, но слишком уж на самом деле фантастично. Да и нет никаких зацепок, так что – не стоит морочить голову».
Рассудив так, и окончательно успокоившись, Иваныч еще покурил на балконе, допил то, что оставалось и лег спать.
За сельпо прошел поезд и наполнил душу тоской по странствиям и деревенской жизни.
Я взял бутылку и сделал глоток.
– Не устал слушать? – Спросила Агата.
Я помотал головой. Отпил еще из бутылки. Агата передала мне коробку с соком.
То, что в истории, – которой невольно мне пришлось стать участником, – уже есть жертвы, не вселяло оптимизма, но деваться было некуда. Мне нужно было знать все, и пусть это хоть как-то поможет…
– Тем бы дело и кончилось, – продолжала Агата, – если бы не случай.
На другой день, чтобы скоротать время перед отъездом, Иваныч решил побаловать себя еще пивком.
Двигаясь вдоль сквера в направлении магазина, он заметил сосну с причудливо изогнутым стволом, стоящую в отдалении, у здания музея. Иваныч сразу вспомнил мучительницу-белочку. Чтобы проверить свою догадку, он приблизился, и обойдя сосну, действительно обнаружил с обратной стороны ее продолговатое дупло, затянутое паутиной.
Иваныч встал на цыпочки, просунул в дупло руку, а когда извлек ее, обнаружил в своих пальцах полиэтиленовый пакет, плотно сложенный и перетянутый бечевой.
В пакете был пожелтевший лист бумаги. Одна сторона его была исписана мелким неровным почерком. На другой оказалась рисованная от руки то ли карта, то ли план местности.
Иваныч нацепил очки, отставил руку с листом и стал читать.
«Здравствуй, добрый человек, – говорилось в записке. – Звать меня Иваном Непомнящим. Сегодня ночью в этом самом сквере похоронил я невинно убиенную жену свою, Марью. Убивец же – я».
Иваныч оторопел и невольно огляделся.
– Убил ее не по своей воле, – рассказывал Иван, – а в смятении душевном, не ведая сам, что творю. Не скажу, за что. Но знай, что на ней вины нет. Весь грех на мне одном. Да еще на проклятом профессоре. Он-то самый виновный и есть. И наконечник-то от стрелы тоже он нашел, из-за которого все закрутилось, и Марья мертва. Он и сам-то помер, но тут я не при чем.
Наконечник же мне Марья показала. Он с виду вещь незначительная. Но сила в нем великая. Тот, кто силу эту выпустит и себе подчинит, станет самым сильным царем, и никакой другой царь ему не указ. Не зря его профессор столько лет искал.
Только тяжко с ним. С наконечником-то. Морочит, изводит, и мысли наводит такие, что – страшно. Профессор хотел с ним править, а Марью в царицы к себе, – да их уж нет. Я же человек темный, слабохарактерный. Чувствую, раздавит меня та сила, поломает. А через то и всему белу свету – погибель.
Кому передать его? Достойных не знаю. И где попало не спрячешь.
Поэтому возьму наконечник, да снесу за тридевять земель; за горы синие, в леса дремучие, что посреди мертвых болот, и закопаю под камнем у столетней сосны. Еще река там, что изгибается, как боевой лук. Сам я родом из тех мест, да только села моего давно уж как нет, и дороги к нему заросли. Так что, будет он в сохранности.
Где та сосна – увидишь на карте.
Дойдет-то не каждый. И сам я в одиночку не справлюсь. Позову с собой брата. Он тут рядом. Тоже работенка у него… Схороним наконечник, и уйду я в места пустынные, – грех свой замаливать. Брат же – со мной. Нечего ему в городе делать; одна морока от города.
Ты же, если не робкого десятка, сердцем чист и не дурак, то ступай, попытай счастье.
Отыщешь наконечник – будет по праву твой. Бери и правь мудро, по справедливости. Если же ты алкаш, тунеядец или либерал, – то положь записку обратно, и ступай своей дорогой, – ибо не твоего ума она дело.
Иван Непомнящий
P.S. А это дерево Марьюшкино любимое было. Раньше, бывало, куплю то бусы, то конфектов, то платочек кружевной, спрячу в дупле, а сам говорю: «Видал я, звезда моя, что белочка по сосне бегала-бегала, да что-то обронила. Ты бы пошла, посмотрела?»
А она, глупенькая, и верит. Бежит, смеется, а я из окна смотрю на нее, да радуюсь…
P.P.S. Где похоронил Марью – не скажу. Искать будешь – все рано не найдешь. Пусть покоится с миром звезда моя.
***
Той ночью Иваныч не спал.
Трясясь на верней полке плацкартного вагона, он то вспоминал свою молодость и давно ушедшую надежду на будущее, то время, когда все пошло боком и приходилось грести изо всех сил, чтобы просто не утонуть, то осознавал свое настоящее, куда его вынесло крайне потрепанным из водоворотов жизни, то заглядывал в будущее, где не было ничего, кроме одиночества, нищеты и медленного угасания в какой-нибудь лачужке на краю города.
Неужели для этого он жил, стремился, надеялся?
Шанс же, который ему выпал, каким бы фантастическим не казался, сулил слишком многое, чтобы его можно было упустить: так, по крайне мере, он плакался Аркаше у костра.
Иваныч решил идти ва-банк. Он продал квартиру и свою комнату в общежитии и купил три списанных аэроплана; те самые, на задворках клуба. Далее, следуя совету убивца-Ивана, Иваныч нашел себе попутчиков. Одним из них стал бывший штурман, а впоследствии пилот – Аркаша, уволенный под старость лет за пьянку. Другим – Игорь: вчерашний курсант летного училища, отчисленный перед самым выпуском за разгильдяйство.
Оба они, как и Иваныч, работали в бывшем аэроклубе, занимали какие-то номинальные должности и ничего не имели за душой.
Официально мероприятие называлось «Шоу бродячих авиаторов», или попросту – «Воздушный цирк».
Аэропланы после простоя требовали ремонта, поэтому Иваныч взял кредит (под аэропланы же), и своих подельников заставил вложиться. Он божился, что все окупится, и даже немало останется сверху, и естественно, те согласились.
Так они летали какое-то время; Иваныч искал, а его подельники зарабатывали. Об истинной цели путешествия Иваныч умолчал. Почему? Мне кажется, чтобы не пришлось потом делиться. Возможно, он хотел с их помощью подобраться поближе к наконечнику и в нужный момент просто свинтить.
Однако, в действительности все оказалось сложнее.
Интересы не сходились. Аркаша и Игорь не понимали, например, зачем им лететь в какою-то глухую деревню, где некого катать, или в большую, где нет погоды, и сидеть там, пока Иваныч наводит какие-то «справки». Кроме того, алкаш Аркаша и повеса Игорь не ладили друг с другом. У одного на уме была выпивка, у другого – девки, и оба считали друг друга людьми никчемными. Вместе же они все больше недовольны были Иванычем за то, что он вечно тащил их туда, где не было ни девок, ни выпивки.
Обещанных золотых гор тоже не случилось. Прибыли от полетов едва хватало на бензин и текущие расходы, и авиаторы все чаще вспоминали о коллекторах.
Словом, напряжение нарастало.
Понимая, что лавировать больше невозможно, Иваныч призадумался. Он понимал, что если ничего не предпринять, придется вернуться домой ни с чем. Этого Иваныч не мог себе позволить. Тем более, что и дома у него теперь не было. Все продано. Аэропланы заложены. Аркаша и Игорь потребуют с них свою долю. Единственное, что ему останется тогда…
Словом, Иваныч решился.
Той ночью у костра он рассказал о наконечнике Аркаше.
Расчет был в том, что имея один план на двоих, им будет легче влиять на Игоря. А учитывая взаимную неприязнь последних, и вовсе избавиться от него (а заодно и от меня). Кроме того, Иванычу таким образом приходилось меньше делиться, и этим он был особенно доволен.
Иваныч врал Аркаше, что не рассказал обо всем сразу, потому что хотел для начала присмотреться и как следует изучить своих спутников. И вот он присмотрелся и выбрал Аркашу как старшего, более опытного и надежного. А Игоря не выбрал, потому что он молодой, неопытный, к тому же бабник: «вот и Агатку подцепил, и вообще, недаром его из училища выгнали».
– Постой, – перебил я. – Иваныч ведь так тепло отзывался об Игоре. И высоко его ставил. Даже прослезился, когда рассказывал, как он в Почай-Реке утонул.
Агата покачала головой.
– Во-первых, говорить о мертвых иначе – это моветон. А во-вторых, – и самое главное, – Иваныч ради красного словца и не на такое способен. Он вообще страсть как любит все приукрасить и выставить себя героем. Особенно на людях. – Агата вздохнула. – Нет, Йорик. Игорь для Иваныча был просто инструментом в этом деле. Как и Аркаша. А прослезился потому, что был пьян.
– Странно… А с виду он показался другим. Когда мы летали, и потом, у костра… – пока он был еще трезвый, конечно…
– Производит, потому что ему нравится, чтобы о нем так думали. А поколесил бы ты с ним бок о бок, как я – понял бы, что он хвастун, невежда, жадный и расчетливый тип. К тому же, завистливый. Ты думаешь, почему он на тебя накинулся в тот вечер? Из зависти, Йорик! Потому что увидел в тебе талант, а не ремесленника, как он сам. И понял, что как пилот ты заткнул бы его за пояс. Если тебя как следует обучить, конечно.
– Тогда почему он со мной согласился летать в тот, крайний раз? – спросил я. – Если он такой, как ты говоришь.
– Потому что в добавок ко всему он темный и необразованный. И слишком верит в приметы. Наверняка вообразил себе, что это небеса посылают ему знак, и чтобы не накликать неудачу – согласился. Впрочем, мне это было только на руку.
Я не ответил.
– Уж если на то пошло, – продолжала Агата, – Аркаша мне нравился гораздо больше. Он пусть и пьет, и простой, как три рубля, зато надежный и всегда говорит, что думает. Жаль, что он не на нашей стороне. Но уж если он пообещался помогать Иванычу, то не отступится. В этом смысле Иваныч, конечно, сделал правильный выбор.
Кстати, – добавила она, – возвращаясь к нашему разговору: после того, как Иваныч все рассказал, он, чтобы у Аркаши не осталось сомнений, показал ему письмо и карту.
Старики решили вместе убедить Игоря лететь туда, куда им нужно: к горам синим и лесам дремучим, в край погостов, болот, и брошенных деревень, где много столетних сосен и замшелых валунов, и рек широких, изгибающихся, как боевой лук; где много нефтяников, золотодобытчиков, торговцев пушниной, держателей алмазных приисков, геологов, частных инвесторов и прочего богатенького и романтически настроенного люда, готового отвалить за полеты такие деньги, по сравнению с которыми те гроши, что мы имеем здесь с нищих селян – просто копейки. И – эта часть была ими придумана специально для Игоря, – где в чумах у лесной опушки живут тонкие, как тростник, гибкие, как лоза пышногрудые жгучие брюнетки с большими раскосыми глазами и волосами до попы – дочери местных вождей.


