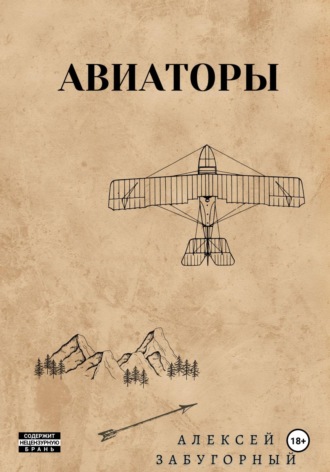
Алексей Забугорный
Авиаторы
– Не расстраивайся, Йо-Йо, – отвечала она. – Обещаю, что когда все закончится, ты не останешься в накладе. И за все свои неудобства получишь сполна.
– Нет, Агата! – я отшатнулся. – Ни в чем таком я не буду участвовать! Даже не надейся! Не буду и не хочу!
– Хочешь или нет, но ты уже участвуешь, Йорик, – вздохнула Агата. – И единственный способ покончить с этим – дойти до конца.
Я схватил бутылку, сделал изрядный глоток и дрожащей рукой поставил ее на землю. Агата завладела бутылкой и тоже пригубила.
– Не понимаю, что вы в этом находите, – сказала она, морщась. – У меня в селе гнали эту дрянь бочками и напивались до беспамятства, хотя на задворках у Селиванова росло… – она показала мешочек, затем вернула бутылку: «Впрочем, глотни еще. – Я вижу теперь, что сейчас тебе это действительно необходимо».
Стрекозы носились, шурша крыльями. Солнечные пятна шевелились у ног. Выпитая водка, бессонная ночь и все, что случилось с тех пор, как я покинул дом безмятежным, солнечным утром, брало свое. Меня одолевали безразличие и дрема.
«Я никуда не полечу сегодня», – думал я, поглядывая на Агату. Она была божественно хороша в кружеве тени и солнечных пятен… «Сегодня я не осилю ничего, кроме вот этой бутылки». И снова глотнул.
Агата сидела у стены и набивала трубочку. Ее нежные, чуть припухлые губы были приоткрыты; длинные ресницы опущены; взгляд чуть раскосых, с поволокой глаз отстранен. Жара и вся скверна этого мира будто не касались ее.
«В чем бы ей не пришлось быть замешанной, она не могла сделать это по своей воле или из дурных побуждений. Пусть ее слова и не вяжутся порою с ее красотой, – все равно, и они прекрасны, если их говорит она».
Тут я понял, что уже напился, и усмехнулся печально: «Нет. Я никуда не полечу сегодня».
– Расскажи Агата, – попросил я. – Расскажи все.
Тонкий аромат жженых листьев поплыл под кленами.
Нежные, теплые губы оказались вдруг близко; так близко, что я почувствовал свежесть ее дыхания, смешанную с благоуханием неведомых трав, и голос, чистый, как родник, поплыл, увлекая за собою…
***
Село наше было глухое. Никакие дороги к нему не вели, поэтому никто никогда не уходил из него и не приходил. Была еще Река, но и по ней никогда никто не являлся. Кроме Селиванова, только он ничего не рассказывал.
– Кто такой Селиванов? – спросил я.
– Один знакомый, – не сразу ответила Агата. – Ты не перебивай, – попросила она. – Чтобы я ничего не упустила.
– Прости, – сказал я, погружаясь в полусон-полуявь; где лето, настоянное на травах, было вечностью; где пахло древней и гудроном. Где шел в отдалении поезд.
– Родителей своих я не помню, – чарующим напевом плыл голос. – Только бабку. Она меня воспитывала (читай – пускала в избу ночевать и иногда кормила), пока не опилась самогоном и не утонула в реке.
Она говорила, что родителей у меня никогда не было, что меня принесла Река. Она выловила меня из воды, когда стирала белье, и оставила с собою из жалости. – Хотя, – добавляла бабка, – и не надо было. Пущай бы плыла себе, куда плыла. Малохольная.
Не знаю, правда ли это, – на счет реки, – но на других селян я точно не была похожа. Те были дородны, приземисты и крепки; любая девка могла с корнем вырвать средних размеров сосну, а заблудившись в лесу изловить медведя и съесть, чтобы не пропасть с голоду. Я же не имела ни их форм, ни размеров, и даже мышь в амбаре вряд ли могла бы изловить. Поначалу ко мне относись, как к природной ошибке и уродцу, а потом привыкли.
Так и жили. Развлечений никаких не было, поэтому все гнали самогон. Те, кто не гнал, ходили к Селиванову, и я с ними. Селиванов не вел никакого хозяйства, отчего двор его густо зарос коноплей.
От Селиванова мы шли к заброшенному амбару. Пока другие клубились вокруг бочек и расползались, распевая песни, братаясь, ссорясь, пуская красного петуха, отстраиваясь заново, снова братаясь и ссорясь, мы лежали на сене и сквозь щели в кровле наблюдали, как плывут по небу облака. Мы. Девки. Парни считали наше увлечение зельем легкомысленным, и девки страдали без любви.
Так мы и жили, и жили бы дальше, если бы однажды, после грозы, которая налетела невесть откуда и также бесследно сгинула, не раздался звук моторов.
То не были наши деревенские тракторы. Трактор у нас был всего один, да и тот зарос мхом и превратился в пень задолго до моего рождения.
Звук шел сверху. В нашу деревню ничто никогда не приходило сверху; только дождь и прочая дрянь, поэтому мы выбрались из сена и припали к щелям амбара.
Это были они. Аэропланы.
Ярко раскрашенные, в таком ярко-синем после грозы небе, они были похожи на опасных, ядовитых насекомых. Они позли неспеша: ярко-желтый, темно-красный и зеленый, – переваливаясь с крыла на крыло. Замыкающий тащил за собою плакат, и те, кто умел читать, прочел и передал остальным: «ВОЗДУШНЫЙ ЦИРК. БРОДЯЧИЕ АВИАТОРЫ».
Никто из селян никогда не видел настоящих аэропланов.
Только изредка, на Ильин день, или на праздник Купалы на горизонте над лесом появлялась белая полоска самолетного следа, и тогда смотреть выходили всем селом.
Бабы говорили, что это антихрист ищет грешников. Мужики – что пришельцы на тарелках летят за самогоном. А деревенский наш дурачок Варфоломей мычал и тыкал в небо пальцем.
Теперь же бабы вытаскивали из изб иконы, крестились и голосили: «Пришел! Пришел Антихрист!!» Мужики хвастались кто за штоф, кто за полушку. Дети плакали, собаки лаяли, а Варфоломей сидел на паперти и ел пряник.
К слову сказать, Варфоломей не всегда был дурачком. Был он как все, только невоздержанным, и меры не знал, а кроме того, – первый на селе грубиян и охальник. Дурачком же стал после того, как наелся мухоморов, а после забрался к нам в амбар в поисках плотских утех. Девок на ту пору в амбаре не нашлось, но он, все перерыв в поисках, наткнулся на нашу заначку, которую скурил и, потеряв всякий контроль над собой, убежал в лес.
Если бы кто был рядом, все бы и обошлось. Есть у нас на такие случаи верное средство – травяной отвар, еще нашими бабками придуманный; он бы его живо в чувство привел. А так… пока хватились, да пока нашли… в общем, было поздно. С тех пор и жил Варфоломей в селе, как птица небесная. Стал он благостный, тихий, сияющий да приветливый со всеми, а об излишествах да о девках и не помышлял более. Сердобольные жители подкармливали его, заботились… по правде сказать, мне он таким нравился гораздо больше.
Теперь Варфоломей ел пряник, а мы раскурили кто трубочку, кто козью ножку, и стали наблюдать.
Аэропланы снизились и ходили теперь над самым селом. Они явно настроились приземлиться.
Паника поднялась неимоверная. Одни сжигали свои дома и уходили в дальние скиты отшельничать. Другие вили петли и прилаживали крюки к потолкам. Третьи пили, что было сил.
Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не Селиванов.
Агата посмотрела на меня: «Ты, кстати, спрашивал, кто он».
Я кивнул и взялся за бутылку.
Агата отставила ее от меня.
– Как-то под утро мы пошли к Реке, – говорила она, – и увидели плывущий вдоль берега плот; ветхий и почти распавшийся на доски. На плоту, до половины в воде, лежало нечто, накрытое тряпкой. Мы вытащили плот на берег. Под тряпкой (которая на деле оказалась старым плащом) лежал человек в широкополой шляпе. Он был без памяти и, верно, провел в воде долгое время, так как весь зарос тиной и ракушками. Мы отнесли его в село.
Староста сказал, что человек давно мертв и предложил сжечь его: «Вдруг в нем микроб». Помощник старосты предложил отнести человека обратно к Реке: «Пущай плывет, куда плыл: вдруг в нем бес».
А Варфоломей засмеялся и влил человеку в рот пол бутылки самогона.
Человек застонал и пошевелился. Затем лицо его покрылось румянцем, а тина и ракушки отвалились.
Так он и остался в селе. Отвели ему брошенную избушку на краю леса, огородик, и оставили в покое. Назывался человек Селивановым.
Пока Селиванов не встал на ноги, мы с девками ухаживали за ним. От скуки он меня выучил грамоте, счету и дал курс физики по старорежимному учебнику, который нашелся в сарае. Он и других пытался учить, но девки охали и в суеверном ужасе бежали прочь при виде формул и прочих тригонометрий.
– Вы, – говорил он мне, – юная леди, большие надежды подаете. Вам бы в город, в университет поступить. Глядишь, составили бы честь и славу нашей науки».
Слов таких я не знала, поэтому тоже пугалась и убегала.
Так он и жил. Никого не трогал, и его никто, и даже сторонились; и не только потому, что чужак и говорил чуднО, а потому еще, что вскоре после появления закрутились вокруг него сплетни, одна другой чуднее; то якобы никакой он не Селиванов, а иностранный шпион; то наоборот, агент тайной канцелярии; а то и вовсе колдун и сродни самому черту – от того и не расстается со шляпой и длиннополым плащом своим, чтобы скрыть рога и хвост, присущие вражьему племени. Словом, его чуждались, а затемно и вовсе старались обходить подальше хроменькую избушку на краю леса.
Но все это, конечно, чушь и небылицы. Никаких рогов и хвоста у него не было и быть не могло. А было то, что человек Селиванов оказался одинокий; поговорить ему было не с кем, идти некуда; вот он и маялся.
Так вот, в разгар паники, когда коллективно уже решили сжечь село и идти к реке топиться, появился Селиванов – серенький и незаметный в своем плаще. Никто не обратил на него внимания, а Селиванов вышел на лобное место, то есть, – к сельпо, и сказал: «Господа! Антихриста не существует! Инопланетяне – существенная фикция! Жизнь есть бесценный дар! Наука – вещь логическая! Встретим аэронавтов наши дружным ура! Хлеб – соль покорителям неба! Даешь пассажиропоток! Да здравствует хорда крыла! Ура, товарищи!»
И исчез, будто его и не было.
Никто не успел ничего понять, но в следующую минуту с той же внезапностью, с которой давеча решили умирать, теперь начали жить наново, лучше прежнего.
Ушедшие в отшельники вернулись из скитов и отстроили сгоревшие избы; те, кто вкручивал крюки, повыкручивали их обратно, расплели петли и подвязали ими саженцы.
Бабы от счастья голосили, мужики – пили, дети смеялись, собаки лаяли, и только Варфоломей сидел на паперти, ел пряник и грозил пальцем тому месту, где недавно был Селиванов: «Антихриста нет – стало быть, и Христа нет? С праздничком! Налетай, подешевело!»
Тем временем все три аэроплана приземлились на выгоне у реки.
Поглазеть собралось все село.
Мы не видели из своего амбара, что там происходит, но и так было понятно, что гостей встречают хлебом-солью, что бабы стреляют глазами, мужики чешут в затылках, дети лезут в кабину, а председатель рассказывает о трудовых успехах и просит передать там, «наверху», что у нас, мол все хорошо, и вообще, «идем с опережением». Ясно было и то, что просто так гостей не отпустят, а промурыжат недельку-другую по застольям, баням да именинам (кого-то, может, и обженят под горячую руку), и только потом, может, начнутся расспросы о текущих необходимостях.
***
Неделю спустя аэронавты вернулись к аэропланам.
Еще три дня они медленно, словно оттаявшие по весне насекомые, бродили вокруг, непослушными пальцами ощупывая корпус, заглядывали под капот, или в оцепенении подолгу сидели и смотрели на лес за рекой.
Когда на четвертый день аэронавты так и не взлетели, мы выбрались из амбара и пошли на луг.
Был вечер. Шел мелкий дождь. Над рекой стоял тихий, хрустальный звон.
Чернобородый, похожий на цыгана человек в алой повязке сидел под крылом и безумным взглядом смотрел на воду. В его руках была склянка, наполненная чем-то, похожим на болотную тину. Товарищ бородатого, – усатый, худой как жердь и в кожаной куртке, лежал, раскинув руки под дождем и ловил капли ртом. Вокруг валялись пустые бутылки, обрывки навигационных карт, банные веники и прочие предметы жизненного обихода.
– Бог в помощь! – сказала одна из наших цыгану.
Тот не дал ответа.
– Поди, в дальних краях совсем не то, что у нас! – добавила другая их наших.
Человек и бровью не повел, а его товарищ произнес: «баба – она и в Африке баба. А самогон у вас ядреный».
– Что самогон? Вы у Селиванова на задах не были? – вставила другая из наших: «Вот ужо где ядрено».
– Поди, сам сеет, – вставила третья из наших.
– Не сеет он, – откликнулась четвёртая из наших, – само растет.
– Почему у других не растет, а у него растет? Потому и растет, что сеет.
– Может, ты сама видала, как сеет?
– Едрыть-Мадрыть… – простонал вдруг человек – цыган. – Неужели так и останемся здесь?
– А что? – вставила первая из наших. – И оставайтесь. Места всем хватит. Селиванов же остался – и вы оставайтесь. Места всем хватит.
Цыган-человек усмехнулся как-то нехорошо и посмотрел на нас впервые и очень пристально: «А вы чего пришли-то? Может, полетать захотели?»
– Зачем? – ответила вторая из наших. – Летать – ваше дело.
– Ну, как же? – подбородок цыгана задрожал. – Неужели неинтересно? В небо подняться? На село сверху поглядеть?
– А чего на него глядеть–то? – высказалась шестая из наших. – И так тошно, – всю жизнь глядим. А сверху, поди, еще гаже будет – весь срам разом увидеть.
– Наверху одна серость и дождик, – добавила четвертая из наших. – Тут хоть в амбаре укроисьси, а наверху нигде не укроисьси. Так и будешь летать, как мокрая курица.
– Стеганет боженька молоньей, – одна борода и останется, – добавила седьмая из наших. – Да и та паленая.
– По небу антихрист летает. Найдет тебя – и утащит в геенну огненную.
– То не антихрист, а пришельцы. Своих баб у них нету – вот они за нами и охотятся.
– И не за бабами, а за самогоном.
Человек – цыган скривился, будто укусил лимон и стал раскачиваться, как маятник.
– Ишь ты, – сказал кто-то из наших. – Поди, у него пришельцы тоже бабу-то украли.
– Тяжело без бабы, дядь? – спросила шестая из наших.
– Не печальсьси. Ты как стемнеет, в амбар приходи – добавил еще кто-то.
Толпу девок точно наэлектризовало при этих словах. Мощное, почти ощутимое напряжение повисло над ней.
Человек не ответил. Он встал, подошел к аэроплану, уперся руками в фюзеляж и стал мерно бить лбом в обшивку.
Он бил сначала несильно и редко, однако постепенно, словно внутри него раскручивалась невидимая пружина, входил в раж, так что аэроплан задрожал и загудел как шаманский бубен. Гул этот, рожденный чревом машины, поплыл над тайгой унылым набатом. В ответ из леса послышался волчий вой, а на селе Варфоломей залился смехом.
– Ишь ты, – сказала одна из наших, – как стучит человек.
– У нас в прошлом годе бычок тоже лбом об сосну стучал-стучал, да и околел. Дюже бодливый был. – Ответила вторая из наших.
– Может, болезнь у него какая? – поинтересовалась шестая из наших.
– Дядь, дядь, – позвала седьмая из наших того, кто лежал на спине. – Смотри, товарищ твой аппарат попортит.
– А и пусть портит, – отозвался безучастно тот, кто лежал в траве. – От него теперь пользы – что от пустой бутылки. Загнулся аппарат! Выдохся! – Он вздохнул. – Кстати, самогончику не найдется? Все равно делать нечего.
– Места у нас знатные, – очнулась восьмая из наших, до сих пор стоявшая безучастно. – Иди на все четыре стороны – все равно дальше погоста не уйдешь.
– А на счет самогону – это не к нам. – Ответили хором остальные. Мы – по другому делу.
– А-а-а-а, протянул усатый и приподнялся на локте. – Ну и позовите мне мужичков тогда. Пусть принесут штоф или, скажем, полштофа, у кого сколько есть. А то дождик, скучно… О! А вот и Игорь.
В дымке дождя, из-за спуска к реке появилась голова и плечи еще одного пришельца.
Он шел, держа в одной руке удочку, в другой – котелок, в котором шевелилась пойманная рыба, – словно вырастая из трав и туманов. Рыжие вихры и вздёрнутый заостренный нос не портили его ладного лица. Он был одет в синий летный комбинезон и арамейские ботинки.
– Иваныч! – крикнул парень, приближаясь. – А ну, кончай! Всех волков распугал! Лучше бы за Аркашей присмотрел, а то он совсем засамогонился. А это что?! – Человек остановился и удивленно окинул нас взглядом. – Гости! Ну, то-ж, милости просим.
И, не выпуская ни котелка, ни удочки, так ловко подтолкнул Иваныча – цыгана, что тот промазал лбом мимо аэроплана, упал в траву, потрясся там немного, всхлипывая, и затих.
– Эка! – удивилась одна из наших.
– Вы на Иваныча не обижайтесь, – сказал парень. – Его понять тоже можно. Столько сил потратить, чтобы собрать весь этот цирк – то есть, нас, – он кивнул головой на себя и усатого, – начать дело, и вот – застрять.
– Где-ж застрять? – удивилась третья из наших. – Чай, не в болоте увязли.
– Не в болоте, говорите? – Усмехнулся парень. – А вот, полюбуйтесь!
Он поднял склянку, бывшую у цыгана: «Вы думаете, что это?»
– Настойка! – гадали девки.
– Огуречный рассол. Только забродил!
– Зелье приворотное!
– Бензин! – ответил парень. – Видали вы когда-нибудь такой бензин?
– На нашей памяти не бывало бензину, – ответили девки.
– А это вы видели? – он открыл капот.
Под капотом было нечто бугристое, покрытое мхом, на поверхности которого произрастали ничтожные белоснежные цветочки.
Девки сгрудились у капота.
Я из-за покатых спин, перекошенных плеч и сальной рыжины волос не могла больше видеть бугристого, но нутром ощутила сильное, страждущее начало, скрытое под ним. Я вдруг почувствовала себя матерью, чье дитя больно. Я протиснулась между девками и встала перед капотом. Бугристое было прямо передо мною. Оно тосковало о четком, выверенном движении, и сентиментальность цветения была ему в тягость.
Сама не зная еще, что делаю, я сказала глухо: «Принесите таз с теплой водой, полотенца, и немного самогону: ведра два».
Три дня и три ночи я не отходила от моторов. Дневной полусвет сменялся ночным мороком, дождь – солнцем, солнце – звездами и звезды – дождем, и когда мрак отступил в третий раз, я поняла, что работа моя окончена.
Руки мои были все сплошь в ожогах и ссадинах, спины ныла, мысли путались от усталости, но все три мотора сияли, не взирая на отсутствие солнца, как церковные купола.
Я отступила на шаг и огляделась.
Серый день тек над селом. Все было, как прежде: девки, авиаторы и общая безнадега. Лишь на краю луга, у дровника, под навесом, появилась унылая толпа парубков, которые издали наблюдали.
Я готова была лишиться чувств от усталости.
– Готово, – сказала я авиаторам. – Можете лететь на все четыре стороны. Ироды.
Молодой аэронавт и цыган-Иваныч глядели на меня; один – не отрываясь, другой – с недоверием, и даже усатый отстранился от ведра с остатками самогона.
– Это где же ты так научилась ладить с техникой? – поинтересовался Цыган.
– А кто его знает… – я пожала плечами. – Делала-делала, да и сделала. Только вот руки в солидоле. Позвольте до реки сходить.
Цыгана такой ответ заставил задуматься. Он подошел ко мне, и понизив голос спросил.
– Послушай. А они теперь точно… того? Ты их часом… не этого…? Не… того?
– Не угробила ты нам моторы-то? – спросил Аркаша из травы.
– А ты попробуй, полети, – обиделась я. – А если сам боисьси, то вот его пошли. – Я указала на парня. – Пущай спытает.
– Ну что, Игорёк? – улыбнулся усатый. – Как теперь открутисьси? Когда такая красавица просит.
Игорь, который, словно бы позабыв обо всем на свете стоял, оборотившись в мою сторону, как флюгер по ветру, вздрогнул и покраснел.
– Ишь, – вздохнула одна из наших, – маков цвет.
– Ты, солдатик на нее не смотри, – посоветовала другая из наших. – Лучше на меня смотри – и подбоченилась.
Под сарафаном колыхалось и перекатывалось прибоем действительно выдающихся свойств тело. Такое, которое только сельская местность может произвести; крепкое, добротное, полное жажды жизни, в полной мере сознающее всю скоротечность ее, а потому ни слишком разборчивое, ни наделенное излишком морали, ибо мораль… словом, долго не забудешь такое тело.
– Ты, как стемнеет, на сеновал приходи, – продолжала первая из наших, бушуя формами. – Я страсть как люблю сказки сказывать. До утра не уснешь.
– Да и было бы на что смотреть, – прыснула другая из наших, почти как две капли воды похожая на первую, и ущипнула меня за бок. – Тростина толще будет. Покрепче ухватисьси – переломится!
– Было бы за что хвататься, – весело добавила третья из наших и дернула меня за косу. – Соскользнешь – не задержисьси!
– Ноги что у саранчи! – не унималась первая из наших.
– А уж какие длинные! – Ходули, а не ноги! – не отставала вторая.
– А шея-то, шея! Как у цапли! – подхватила третья.
– Спина – что твой тросник! – понеслось со всех сторон.
– Кожа тоньше, чем мартовский лед! Вон, синие вены на висках видны.
– У всех волосы, как волосы, – рыжие, а у этой – словно чага вареная! Срамота!
– Как мед густые! Гребень переломится! Вот ужо наказание!
– За жопу не возьмесьси!
– Живот – как доска! Ночью замерзнешь около такой!
Я не испытывала обиды. Девок можно было понять.
Здешние мужички день и ночь пили самогон и не обращали на них никакого внимания. Пришлых же не было. На нашей памяти только Селиванова замело, но он был не в счет: слишком чужой и непонятный.
По ночам девки скрежетали зубами от безысходной страсти. Над селом стоял этот мерный, унылый звук, на который откликались лишь филины и волки из тайги.
– Тише, девоньки! Тише! – залебезил Иваныч. – Подруга ваша и хорошая, и умница, и ругать то ее не за что, да вот беда: лететь-то нам не на чем: бензин скис! И сам скис лицом.
Вздох облегчения изошел из среды девок.
Я же, окрыленная успехом, не замечая того, что творится вокруг, с простодушной гордостью заявила: «Не грусти, дядь. Доберетесь вы до города, до какого хотите. Будете баб на еропланах катать, да по сеновалам тискать. В городе, поди, сено не как у нас; мягкое, что перина».
Цыган посмотрел на меня с недоумением.
– Я модифицировала топливную систему, – сказала я непонятное. – Мотор теперь может работать на самогоне.
При этих словах Цыган застыл, как статуя; только глаз его подергивался.
– Еще на ацетоне, растворителе и солярке, – добавила я. – Хотя, с соляркой я была бы осторожнее.
Цыган молча подошел к усатому, взял у него ведро и отхлебнул.
– Не благодарите, – успокоила я.
Цыган не стал благодарить. Он лишь развел руками и произнес упавшим голосом: «Все ясно. Доконала девка моторы….»
Я обернулась к парубкам, которые стояли все это время, как забор и тихо покачивались: «Эй! Касатики! Чего так-то стоять? В землю врастешь! Организуйте-ка нам лучше самогону на посошок! Тут немного надо. По бочке на ероплан. Только живо!».
Касатики поплелись к селу, а Иваныч стал расхаживать взад и вперед, хватаясь за голову и матерясь.
Девки притихли, огорошенные. Потом из их толпы послышалось шипение, напоминающее гадючий посвист.
– Змея подколодная!
– Потаскуха!
– Коза драная!
– Вертихвостка!
– Самой мужика не хоцца, и нас уморит.
– Так в девках и состарисьссси.
– Шшшшш…..
– Змеюка!
– Кикимора костлявая!
Дело принимало нехороший оборот. На всякий случай я отошла и стала насвистывать, будто бы была здесь совершенно не при чем.
– Свисти-свисти, – послышалось из толпы. – Ужо придешь ты в амбар, – побеседуем.
Ко мне подошел Игорь: «Послушай, – шепнул он. – Чего это они?
– Ты, солдатик, лучше лети отсюда подобру-поздорову, – подсказала я. – И своим передай. Не то девки вас не отпустят. Они страсть до мужиков голодные. Даже усатого не пощадят.
Игорь заволновался: «А ты как же?»
– Обо мне не беспокойсьси. Я в лес уйду. Или на дальний скит. Они месяц-другой побесятся, притолоки в амбаре изгрызут, да и поостынут; тут я и вернусь. Может, бока и намнут для порядка, но в наших краях такое за обиду не считается. А там, глядишь, и заживем лучше прежнего.
Игорь уставился на меня: «Не считается…?! – Да как же это вы так тут живете?»
– А так и живем, – отвечала я, – что другой жизни не видали. А то бы давно удавились. Так что, летите-ка вы подобру-поздорову.
Девки, улыбаясь для прикрытия, растягивались цепью, блокируя летное поле.
– Так я и говорю! – сказал Игорь громко, чтобы его было слышно. – Места у вас знатные! Воздух, тишина… В лесу полно всякого зверя, грибов и ягод; реки изобилуют рыбой, поля родят урожай, а люди – чистое золото! Чего-ж бы не пожить?! Останемся денек – другой!
Иваныч округлил глаза, но, увидев девок, все понял и заулыбался кривенько: «А от чего-ж бы и не остаться?! Твоя правда, Игорёха! Такого леса еще поискать! И зверья поискать! А про людей и подавно молчу!»
Усатый ловил ртом дождевые капли.
Девки выдохнули было, но заметив, как бегают глаза авиаторов, лишь еще больше ощетинились, и продолжили подбираться.
– Не поверили, – шепнула я Игорю. Теперь только чудом спасётесь. Да где же касатики? – и глянула в сторону села.
В зеленоватой дымке дождя, на фоне потемневших, вросших в землю отдаленных домишек ползло нечто бесформенное, серое, шаткое. То были парни, впряженные за неимением лошади в телегу, на которой покачивались наспех прикрученные бечевой бочки.
Перед телегой шел человек в широкополой шляпе и старом плаще.
– Селиванов, – выдохнула я с облегчением.
Цыган подошел ко мне: «Селиванов? Кто он?»
– Ученый. – На плоту прибыл, – и обернулась к Игорю: «ты теперь иди, распорядись на счет заправки, пока ваш усатый весь самогон не выпил».
Когда телега поравнялась с аэропланами, Селиванов приблизился к нам и встал молча.
– Позвольте представиться, – сказал Цыган официальным тоном и протянул Селиванову руку. – Виктор Иваныч. Вожак этой, так сказать, стаи…
– Мое почтение, – сухо ответил Селиванов. – Я, признаться, думал, что вы уже улетели. Как давно вы здесь?
– Без малого две недели, – развел руками Иваныч. – Хотя, может, и больше… у вас тут трудно вести счет времени. – И скосил взгляд на пустые бутылки. – Да и вообще… трудно…
– Вы их имеете ввиду? – спросил Селиванов, кивая на девок.
Пестрая кутерьма девичьих сарафанов клубилась теперь в центре поля.
– В наших краях страшнее бабы зверя нет, – сказал Селиванов. – Особливо – голодной. Так что зря вы их раздразнили.
– Мы не дразнили, мы просто… – начал было Иваныч.
– Просто или нет – об этом не вам судить, – отрезал Селиванов. – Девки сами решают, что принять за призыв. – Он вздохнул. – И как только вас угораздило…
– Мы попали в грозу, – с достоинством отвечал Иваныч. – Сбились с курса. Топливо было на исходе, но в последний момент… – Он остановился и глянул на Селиванова подозрительно: «Кстати, а сами-то вы какими судьбами..?»
– Поверьте, если вы не улетите, – отвечал Селиванов, – у нас будет достаточно времени поговорить обо всем. Впрочем, если хотите, то сюда я прибыл по реке. На плоту.
– Вы – путешественник? – оживился Иваныч и снова взглянул на Селиванова пристально и неспокойно.
– Можно и так сказать, – уклончиво ответил Селиванов.
– А откуда, если не секрет?
По лицу Селиванова пробежала тень, взгляд сделался темен, но в следующую секунду он широко улыбнулся и шагнул от цыгана ко мне: «Агата! И вы здесь? Мое почтение, юная леди! Рад, рад видеть вас. Так вы, что же, тоже интересуетесь авиацией?»
– А что мне, – отвечала я. – Все пришли – и я пришла. А как все уйдут – так и я тоже уйду. Мне до них делов нету.
– Крайне неординарная личность, – сообщил Селиванов Цыгану. – Эта юная особа, оказавшись как-то раз в сарае у меня на задворках, отыскала учебник физики, – и соорудила электро-цепь! Из ведер, склянок и старого медного…
– Готово! – донеслось от аэропланов.
Игорь стоял на крыле с пустым ведром. Аркаша, ухватившись за срез кабины, неверной ногой пытался нащупать ступеньку. На колокольне маячила фигурка дурачка-Варфоломея в широкой домотканой рубахе: «Go, mother fucker, go!» – выкрикивал он на непонятном языке и размахивал руками, как ветряная мельница: «Get’ta hell outta here, you cunts!»
Тем временем тучи сгустились, и снова пошел дождь, – мелкий и нудный, какой только у нас в селе может быть. Капли были так малы, что не достигая земли, пылинками носились по воздуху, оседая на людях и предметах, обращаясь в зеленоватый налет, из которого наслаивался мох, как тот, который покрыл моторы.
Селиванов шагнул к Иванычу: «Пора, – шепнул он. – Я сейчас буду девкам зубы заговаривать, а вы, Виктор…»
– Иваныч, – напомнил Цыган.
– Вот именно, – скривился Селиванов, – лезьте в кабины, и как дам знак – чтоб сию же минуту вас тут не было. Понятно?
Цыган взглянул на него с недоверием.
– Надеюсь, – глухо добавил Селиванов, – больше на вашем пути не встретится непогоды.
– А как же Агата? – шепнул Игорь. – Мы что, оставим ее здесь?
– Агата под шумок утечет к дальним скитам и отсидится там месяц-другой. – Отрезал Селиванов. – За это время девки поостынут. Как вернется – ей, конечно, для порядка намнут бока, но здесь на такие мелочи…
– Мелочи?! – опешил Игорь.
Но Селиванов не стал слушать. Он вышел вперед, к девкам, и воскликнул: «Ну что, красавицы?!»
Девки уставились на него.
– Чего уставились? – спросил Селиванов. – Авиаторов, что ли, не видали? А ну – сядьте в круг! Я вам сказку расскажу.
Девки повиновались.
Селиванов оглянулся с тоской, и вдруг, словно бы воспарив, взмахнул полами ветхого плаща и заголосил:
– Даешь пассажиропоток! Даешь надбавку за вредность! За циркадный ритм! Шаг винта – это вам не хорда! Я вам покажу трубку Пито!
Девки притихли и втянули головы в плечи.
Авиаторы тем временем добрались до аэропланов и заняли места в кабинах.
– Я вам покажу встречный эшелон, желторотики хреновы! – гремел Селиванов, бегая по кругу и размахивая полами плаща. – Вы у меня довыравниваетесь на трех метрах, Чкаловы недоделанные! Ниже тысячи футов «Amber Caution» – уходим! Ниже двухсот «Autoland warning light» – уходим! Колауты мониторим! И не дай вам бог пропустить «No Flare», вороны облезлые! – Вопил он, ускоряя бег.
Девки хлопали рыжими ресницами и боязливо ежились.
Внезапно Селиванов остановился, точно налетел на скалу, воздел костистые руки с длинными, скрюченными пальцами к низкому небу и из глаз его полилась ночь: «Cockpit preparation!?» – Потусторонним голосом выговорил Селиванов дико и страшно слова древнего заклятия.
Вмиг потемнело вокруг. Исчез лес за рекой и огненные борозды исполосовали небо от края до края.
– Completed! Completed! – безвольно, эхом отозвались девки, не сводя с Селиванова зачарованных глаз.
– Gear pins and covers!? – не то вопрошал, не то приказывал Селиванов.
– Removed! Removed! – простонали девки, вцепившись в волосы и гибко раскачиваясь, словно тростник в бурю.
– Signs!? – гремел Селиванов.
– On..! Auto…! – млели девки не то от смертного вожделения, не то от боли.
Поднялся ветер и двинулся по кругу, увлекая за собою банные веники, навигационные карты, и дымные полосы тумана. Летели сучья, синицы, жуки, склянки и пустые ведра, влекомые воздушным воротом; летели звуки древнего камлания, плыли над лугом. Завыли волки в лесу. Залаяли собаки на селе. Заплакали младенцы. Заголосили бабы. Мужики нырнули в бочки с самогоном, и только дурачок Варфаломей забрался на церковный купол и смеялся восторженно.


