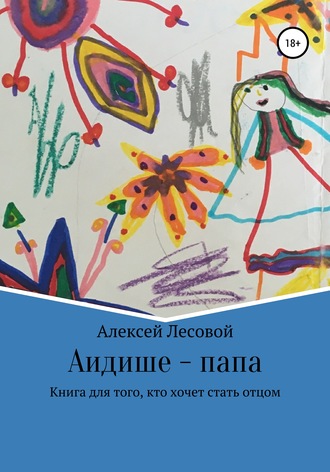
Алексей Лесовой
Аидише папа: книга для того, кто хочет стать отцом

Глава 20. Подчинять и подчиняться
Старшему ребенку в доме одновременно повезло и досталось. Он застал своих родителей в их самый романтичный период. Был с ними в гордом одиночестве и ему доставались все их внимание и забота. Не стоит забывать, что и сами мама с папой были в тот момент немного моложе и наивней, чем когда спустя какое-то время, иногда весьма значительное появится братик или сестрёнка. Появление нового члена семьи – событие ожидаемое и вместе с тем неожиданное для детей. Они чувствуют свою сопричастность с происходящим. И хотят внести посильный вклад в уход и воспитание младенца. Но вскоре выясняется, что новый «жилец» полностью завладел вниманием родителей. Он беспрестанно кричит, он вечно чем-то недоволен, он непонятно когда спит и когда бодрствует. Старшие дети начинают ревновать и ведут себя настороженно. Как бы про них совсем не забыли. Стоит маме взять младенца в руки, они уже на стороже. Льнут и просятся посидеть рядом. Их обижают привилегии, обрушившиеся на вновь прибывшего. Им это кажется несправедливым, и они правы. Но со временем семейная иерархия восстановится. Младший займёт своё место, там, где ему положено, и будет вынужден учиться подчиняться старшим детям. Навыки подчинения и умения подчиняться играют не последнюю роль в сохранении спокойствия семейной обстановки. Без непосредственного участия родителей в установлении правил поведения тут не обойтись.
«Командовать умеет лишь тот, кто умеет подчинять» – звучит немецкая пословица. Одно обуславливает другое. Если уж продолжать пользоваться армейской терминологией, то довольно часто дети воспринимают в штыки родительские указы или приказы. Особенно если они звучат безапелляционно и грозно. Ты ему «да», а он в ответ «нет». Ты ему про Фому, а он про Ерему. Не в каждой семье есть военный и поэтому строгость и дисциплина близки не всем. Шучу. Пререкания с родителями по каждому поводу начинаются у ребенка, когда он чуть подрастёт и станет осознавать себя отдельной единицей. Боевой единицей. Года в три моя старшая стала отвергать любые компромиссы по поводу одежды. Ее устраивали только платья и только те из них, что ей приглянулись сегодня. Компания противостояния двух сил: детского желания и родительского терпения развернулась не на шутку. В ход шли все конвенциональные виды оружия: просьбы и угрозы, слёзы, крик, обиды и прощения, убеждения, обещания. Поощрялся, в том числе, подкуп противника, и переманивание его на свою сторону, выдвигались ультиматумы и принимались победные реляции. Бесполезно. Ситуация с одеждой стала патовой и окончательно зашла в тупик. Мы, родители, тут, конечно, допустили ошибку, выбрав неверную стратегию противостояния до победного конца. Извинением нам может служить лишь то оправдание, что Саша была нашим первенцем, и все приходилось решать и менять по ходу дела. Ещё недавно наша любимая девочка была такой послушной и покладистой. Принимала на ура наши игры и идеи, старалась быть всегда рядом. Мы таскали ее с собой везде: в поездки, на концерты, к друзьям в гости в рестораны. Она была очень коммуникабельной и легко шла на руки к незнакомым людям. Мы привыкли к тому, что-то с Сашей не бывает проблем. И даже не могли предположить, что так будет далеко не всегда. Началось с мелочей. Она перестала реагировать на наши слова. Точнее перестала делать то, что мы ее просили сделать. Самые элементарные вещи, которые не составляли труда и уже были пройдённым этапом, неожиданно превратились в камень преткновения. Заходим с ней в квартиру. Нужно снять обувь. Саша идет, не разуваясь, дальше. Начинаешь на неё сердиться. Снимет ботинки где попало и бросит их там же. Скажешь один раз, другой, – никакой реакции. Поиграет в игрушки – все бросит. Просишь прибраться – сидит и ухом не ведёт. «Ноль внимания, фунт презрения». Естественно, меня это сбивает с толку, ведь раньше за ней такого упрямства не наблюдалось. Потом у улыбчивой радостной крохи с всегда хорошим настроением вдруг начались слёзы по поводу и без. Она стала бурно реагировать на любой шум, бояться его. Просыпалась ночью в слезах, и мы никак не могли ее успокоить. Про платья я уже живописал. Одно, другое, третье и мы вскоре не узнавали нашу девочку. С ней стало очень тяжело. Мы понимали – сказывается ещё влияние садика. Перед ее глазами пример поведения детей, во многом отличный от тех установок, что прививали мы дома. Сравнивая одно с другим, она выбирала то, что ей легче, где меньше требуют. Когнитивный диссонанс нарастал. Была ли это ещё и своеобразная «проба сил», когда дети испытывают на прочность границы дозволенного, скорее всего не без этого. Опять же, по сравнению с одногруппниками, наши рамки наверняка казались жёстче и строже. Сделали ли мы все, чтобы попытаться понять ее состояние и облегчить ей задачу найти решение, как себя вести дальше? Не перегнули ли палку, не давили ли слишком сильно на ее только формирующуюся психику? Я до сих пор в этом не уверен. Хотя, по прошествии года, обернувшего затяжными позиционными «войнами», ситуация начала понемногу выправляться. Саша стала спокойнее, слез поубавилось и появилось желание всячески помогать родителям. С тех пор ее сознательность только росла. И нет у нас в семье более ответственного человека, чем моя старшая дочь. Иногда ее педантизм настораживает и даже пугает. Хорошо хоть рассеянность никуда пока не делась и одно компенсирует другое. Когда наши с ней отношения переживали острую фазу противостояния, и на все мои обращения следовал безоговорочный отказ, причём практически по любому поводу, я написал стишок, который называется «Кот наоборот». Саша до сих пор к нему относится прохладно, видимо, что-то осталось ещё в ее памяти с той «горячей» поры.
Вот он:
Жил-был кот наоборот,
Он любил чесать живот.
Говорят: «Мой милый котик,
Хочешь, почешу животик?»
Он же вместо живота,
Подставлял конец хвоста.
Или утром, спозаранку
Есть зовут его сметанку.
Но в ответ лишь слышно – «Нет!
Я сметану ем в обед.
За окном денек погожий,
Все столпились уж в прихожей.
Собираются гулять.
Глядь, а кот опять в кровать.
Веселятся все – он кислый
Что такое с нашей кисой?
Очень хочется всем спать
Кот же прыг, давай скакать.
Наконец всем стало ясно,
Объяснять коту напрасно.
Он живет наперекор
Всей семье сплошной укор.
Скажешь, мы хотим направо,
Он налево побежит.
Нам пора вставать с кроватей –
Кот свернулся и лежит.
И тогда нашли мы средство
Как исправит нам кота:
Просто нужно постоянно
Заменять все «нет» на «да»
Например: гулять не хочешь,
Уж на улице темно?
Лапы там поди промочишь…
Смотришь – кот стремглав в окно.
К холодильнику подходишь –
Речь ведешь издалека
«Нет, наверно, сытый котик,
Он не хочет молока».
И сейчас же без задержки
Появляется наш кот
Хвост трубой торчит призывно
К миске он скорей идет.
Не увидев там ни капли,
Принимается кричать:
«Я без ужина остался!
Я не буду голодать!»
Когда гости к нам приходят
Удивляется народ:
«Как вы так с котом живете?
Это ж чистый сумасброд!»
Но гостей мы успокоим
Эко дело, не беда.
Можно ладить с ним прекрасно,
Заменяя «нет» на «да».
Глава 21. Филисовский вопрос
Что можно обсуждать с детьми, а что нет? Где проходит допустимая граница домашней демократии? Возвращаемся к вопросу «рамок» для детей. Мне кажется, не стоит проявлять излишнюю строгость в этом вопросе. Увлечение рамочными разграничениями не то что пустая трата времени, но часто это не срабатывает. Идти на принцип и требовать от ребёнка безусловного выполнения «соглашений» глупо с вашей стороны. Дети ещё не очень курсе, что с принципами не поспоришь. Я уже писал, что они гораздо гибче нас и, как правило, не хотят идти на обострение, предпочитая переиграть условия. Поэтому вместо рамок удобнее применять «мягкую силу». Вы можете сдвигать в ту или иную сторону зазор дозволенного, но «ключ от двери» остаётся в ваших руках. И это не подвергается сомнению. Обсуждать с детьми можно все или почти все, учитывая, разумеется, их возраст. Больше того, такие диспуты весьма полезны для обеих сторон. Дети учатся размышлять вслух, когда перед ними ставят серьёзные вопросы. Как устроена та или иная вещь, что означают понятия дружбы, внимания, как научиться тому или иному навыку, почему вечером нужно идти спать. И так далее. Заведя подобный разговор, вы с удивлением сделаете множество неожиданных для себя открытий. Первейшее из которых – ваши дети знают очень много, о чем вы и не предполагали.

«У меня есть филисовский вопрос» – сказала как-то 5-тилетняя Варя. – «Что важнее: сила или ум»?
«Не филисовский, а филифьонкин вопрос», – поправила ее сестра Саша. Она старше Вари, а потому иронична. Недавно мы закончили читать про муми-троллей и Фильфьонка пригодилась.
«Вопрос все равно хороший», – не стал спорить я. – «Так что важнее»?
«А ты как думаешь»? – ответил вопросом на вопрос Саша.
«Смотря, в какой ситуации. Где-то сила нужнее, а где-то ум».
«А иногда и то, и другое» – подвела итог диспуту Саша.
Но тут Варя задала новый вопрос: «А что важнее: сила или красота»?
«Ну, это для кого как», – снова начал размышлять я вслух.
«Красота сильнее», – теперь уже резюмировала Варя, пока Саша отвлеклась на дожёвывание куска шницеля. Дело происходило за домашним обедом, плавно перешедшим в светски-философскую беседу.
«Девочки! Этого в классе вам не задавали», – неожиданно вмешалась в спор самая мелкая из моих дщерей Лиза. Она уже давно перебралась от стола к дивану и лежала на нем, задрав ноги вверх. На том и порешили.
Совместные «прения» на разные темы и проговаривание в том числе «болевых» точек с детьми вырабатывает у них привычку отстаивать свою позицию, аргументировать ее, а также навык слушать и принимать чужие аргументы. Под «болевыми» я подразумеваю неудобные, неприятные детям моменты в жизни. Например, когда ребёнку что-то поручили сделать, а он не хочет, можно ли обманывать, вопрос наказания и прощения, обиды и чувство стыда – полезно ли его испытывать? Кстати, о стыде. Мне попадались утверждения вполне успешных и авторитетных детских психологов и педагогов, которые предлагают исключить это слово из родительского лексикона. Мол, стыд закомплексовывает детскую психику, прививает чувство вины, рождает неуверенность в своих силах. Я бы не согласился с этим. Опять же все зависит от дозы, как часто вы прибегаете к данному аргументу. Если педалировать и постоянно обвинять ребёнка, причём делать это по любому поводу: не выучил уроки, шумит, не даёт отдохнуть родителям, просит мороженое, хотя уже слопал целую шоколадку, ленится, не слушается, громко и вызывающе ведёт себя на людях… Как тебе не стыдно! То результат непременно будет. У малыша разовьётся комплекс неполноценности. Он предпочтёт скрывать свои чувства и научится не проявлять желания. Но от этого они никуда не денутся. Просто вы их загоните внутрь и попробуй потом допытайся, что там у ребёнка на душе, что его беспокоит, что его волнует и приводит в уныние или экстаз. Но бесстыдство – другая крайность. И речь тут не о физиологии, а об умении сопоставляться свои желания с интересами других. Это вопросы морали, этики. Если их не касаться – вырастет неполноценный человек, уверенное в себе и бесцеремонное животное, ставящее свои внутренние позывы выше всего остального. Возможно, кто-то считает, что это как раз гарантирует успех в жизни. Я готов поспорить. Вопрос, что ещё подразумевать под успехом. Но уважения окружающих своим бесстыдством вы точно заслужить не сумеете.
Не менее важно, что обсуждение с детьми множества дел и тем подразумевает ещё и выработку доверия к старшим. Это своеобразное делегирование полномочий, разделение ответственности с ребёнком ему очень импонирует. Так он приобщается к миру взрослых. Он хочет, чтобы его принимали в нем за «своего», он готов взять на себя часть решения задач и будет стараться не подвести. Разумеется, нужно предусмотреть пропорции такого взаимодействия, поскольку последнее слово все же всегда должно оставаться за старшими. Вообще, разговаривайте чаще с детьми, для них это очень важно. Старайтесь их выслушать, пробуйте вывести их на самостоятельные размышления. Давайте подсказки, задавайте наводящие вопросы, так им будет интереснее, чем если вы с высоты своего пьедестала начнёте излагать абсолютные истины. Меняйтесь местами: сначала вы учитель, а потом ваш ребёнок может продемонстрировать свои умения и обучить ими вас. Поверьте, ход его мысли вам не предугадать.
Мы с девочками любим играть дома в «школу». Расставляем «парты», распределяем уроки. Учителями выступают по очереди две старшие, Саша и Варя. Роль директора отведена мне. Неважно, какой урок ты собираешься преподать: рисования, спорта (то есть физкультуры), родного или иностранного языка (а именно Саша выучила сестру ивриту) или даже дуракаваляния… Ощущение себя главным в этот момент помогает осознать собственные навыки и закрепить их через «преподавание» другому. Играя в такие ролевые игры, дети чувствуют себя взрослыми. А я, прислушиваясь к тому, о чем и как они говорят, и какие требования предъявляют друг к другу, узнаю много нового о себе. И, если честно, то далеко не все мне тут нравится.
Старшая Саша бескомпромиссна к любым признакам разгильдяйства. Ее серьёзность несколько обескураживает. Как это знакомо. Зато средняя, Варя, очень органично смотрится в роли расслабленной и мечтательной ученицы. Но примеряя на себя образ учительницы, взяв в подопечные самую младшую – Лизу, она тут же меняется, тоже становясь серьёзной и требовательной. Лиза, слава богу, пока ко всему относится совершенно беспечно. «Задания» выполняет как попало, за что ей достаётся от всех «учительниц», но ее это мало волнует. Попало ей нынче и от «директора». Я отчитываю Лизу за «художества» на аквариумной стенке. Она, не в первый раз, разрисовала стекло – на сей раз мелком.
– Лиза, мы с тобой уже разговаривали на эту тему. Так нельзя делать, ты это знаешь. Где можно рисовать? – Лиза упорно молчит. – Посмотри на стены. На них можно рисовать? – Лиза качает головой. – А там все ещё твои «художества» остались. Мы их отмыть не можем. На аквариуме тоже нельзя. Можно только на бумаге, да? – Лиза молчит. Тут голос подаёт Варя:
– У меня есть идея: надо стены бумагой обклеить. Тогда Лизе можно будет на них рисовать.
– А она ещё на полу «чиркает», – вставляет свои «5 копеек» Саша. – Поэтому на пол нужно тоже бумагу постелить.
– И как мы ходить будем, – интересуюсь я. – Во что у нас квартира превратится?
– Нет! – Неожиданно продолжает свою мысль Саша. – Бумагу использовать нельзя. Ее из деревьев делают. Это сколько ж деревьев придётся срубить. Лучше на пол постелить целлофановые пакеты.
– А они загрязняют окружающую среду и тоже наносят ущерб природе, – замечаю я. Саша соглашается.
После нашего обсуждения Лиза, не проронившая за все это время ни слова, залазит на стул, дотягивается до упаковки влажных салфеток и идёт протирать аквариум. Не в первый, кстати, раз, и почему-то кажется, что не в последний.
Глава 22. Поощрение вниманием
Когда старшей Саше было около 7 лет, а Варе, соответственно, 3 года, младшая Лиза тогда еще только появилась или собиралась появиться на свет, у нас было такое развлечение: я включал на компьютере видеоклипы и девочки танцевали под музыку. Прежде чем начать, они бежали переодеваться. И только облачившись в соответствующие настроению наряды, начинали свои «па». У каждой была своя любимая песня и не одна. Саше нравились лирические композиции, Варя предпочитала ритмы латино. Как же любопытно на них было смотреть. Через движения проступала их природа, их натура. Одна кружилась до бесконечности и прыгала козликом, другая вертела попой, а потом устраивалась на полу, лёжа на спине. Движения ее были неспешны, но энергичны. Общим же было то, что отдаваясь танцу, они не забывали искать мой взгляд. И стоило мне на них посмотреть пристальнее или похвалить, как они тут же «вспыхивали» и усердия прибавлялось в разы.

Ребёнку не нужно многого, чтобы он почувствовал себя счастливым. Ерунда, что дети сегодня слишком требовательны и разборчивы в получении удовольствий. Самый простой и доступный способ заставить сильнее биться его сердце – поощрить его своим вниманием. Посмотрите, что он делает, похвалите результат. Предложите показать, что он умеет, чему сам научился или чему научили в садике, школе. И лицо его просияет. Дети ждут от нас одобрения. Дети хотят нам нравиться. А мы так часто к ним невнимательны. У нас голова занята совсем другим. Хвалите чаще своего ребёнка. Ему это приятно, ему это нужно. Не перехваливайте, но находите повод подчеркнуть его сильные стороны. Сам умылся, почистил зубы, заправил постель, придумал игру, оказал посильную помощь в готовке и уборке. Не жалейте «спасибо», закрепляйте положительный стереотип на нужные ему и вам действия. Бывают во время такой помощи по хозяйству и проколы. Моя «стряпуха» Варя вызвалась печь блины вместе со мной. Она уже знает рецепт и последовательность действий. Мы замесили тесто. Теперь предстоял финальный этап – выпечь сам блин. И тут она не рассчитала. Пока несла в поварёшке тесто, часть его по дороге пролилась мимо. Я сделал ей замечание. Второй блин. Та же картина. Тесто на полу и плите, а не на сковородке. После третьего промаха я не выдержал и отправил ее восвояси. Варя расстроилась и заплакала. Я совершил ошибку, терпения не хватило. Пришлось извиняться и объяснять, почему я вспылил. «В следующий раз будь, пожалуйста, внимательней и собранней», – закончил я наставительную беседу. «Хорошо, договорились?» Дочка нехотя кивнула головой. «У нас с тобой блины не получаются. А вот с мамой выходит нормально. В следующий раз я буду с ней их делать», – озвучила свой вердикт Варя. Она права. Я был наказан совершенно справедливо, а она – нет.
Родительское внимание нельзя подделать. Оно либо есть, либо нет. Тут нельзя наполовину. Но вы не можете вникать во все нюансы и мелочи жизни детей. Хотя, что считать мелочами, а что важным, ещё спорный вопрос. Да, у нас часто не хватает времени вникнуть в суть проблемы и порой она кажется совсем не существенной. А в итоге все может обернуться серьёзной обидой на родителей и это та трещина, которая отделяет нас дальше и дальше. Помню, в свои 7 лет, я решился бежать из дома. Что послужило причиной такого радикального решения, в памяти моей не отложилось. Нельзя сказать, что я рос сорвиголовой. Скорее, наоборот, пай-мальчик. Тем удивительнее решение покинуть семью. Я был не один. План побега мы обсудили с сестрой. Насколько все было серьёзно и осознанно говорит тот факт, что предварительно мы изъяли из шкатулки родительские сбережения. Далеко мы не ушли. Пропажа наличности была вскоре обнаружена, и нас ждал семейный разбор полётов. Кажется, была даже порка.
Со слов моей мамы, я был очень обидчивый мальчик. Мог надуться и выпятить губу из-за любой мелочи, а потом ходить и ни с кем не разговаривать. У девочек механизм расстройства устроен иначе. Сдерживать слёзы им не надо. Я думал, старшая мне уже продемонстрировала весь девичий арсенал рыданий и всхлипов. Не тут-то было. Когда подросла Варя, мы перешли на новый уровень слезливости. В ее огромных голубых глазах влага появлялась через доли секунды. А причиной могло стать что угодно: невидимая царапина на ноге, не полученная от сестры игрушка или слишком холодное (горячее) молоко перед сном, даже просто необходимость встать с кровати. Буквально все жизненные перипетии могли вывести мою девочку из равновесия. Она и сама это понимала, но сделать ничего не могла. Мы сначала утешали ее, как могли, потом уговаривали, повышали голос, стыдили, потом в принципе перестали реагировать. Варя продолжала реветь. Наконец, воспитательные беседы возымели действие. Через какое-то время слез поубавилось. Она сама с гордостью заявляла: «я сегодня ещё не плакала». Но все равно не проходило дня, чтобы Варя как следует не разревелась. И вот, слёзы позади. Ну, или почти позади. Не думаю, что заслуга в этом избавлении целиком основана на моих с супругой педагогических талантах. Просто закончился определённый период развития психики. А Варя сумела совладать с эмоциями. Преодолела в себе слабость. За что ей честь и хвала. Она это знает и немножко гордится этим. Мы же своей непримиримой позицией по «слёзному вопросу» помогли ей в этом. Кто знает, если бы мы решили терпеть и реагировали бы на рёв непрерывными утешениями и сюсюканием, возможно, Варины глазища до сих пор были бы на мокром месте.
А вот самая младшая моя «дщерь» Лиза пока позволяет себе пустить слезу лишь в самых исключительных случаях. Падения, царапины, ушибы, ссоры с сёстрами и родительское наказание проходят почти всегда «всухую». Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы она заревела. Значит, больно не на шутку. Или очень обидно. Но Лиза обижаться не любит. Она первая идёт мириться. Подходит, обнимает и целует, куда дотянется.
Поводов для обид в жизни множество. Скажем, Саша совершенно не умеет проигрывать. Любая игра для неё – это сражение, где победителем может выйти лишь она. Когда этого не случается, на пол летят фишки, в воздух карты и игра подходит к завершению, но не к концу. Пересилить себя она не может. Поэтому в последнее время отказывается играть вообще. И так не только в настольные игры, а во всех играх вообще. Либо действуем по ее правилам, либо никак. Надо отдать ей должное. Саша – большая фантазёрка и любит придумывать игры сама. А раз твоя игра, то и правила тоже. Но остальные на это не согласны. В итоге все быстро переходит в стадию обмена мнениями на повышенных тонах. А крик и ссоры – тоже до определенного момента прекрасный способ выйти на первый план.
И вы можете помочь детям реализоваться в этом, ведь в каждом ребёнке скрыт актёрский талант. У кого-то хорошо получается смешить других. Случайный трюк, гримаса, подражание взрослым или животному, а может, соседу по парте, оборачивается взрывом хохота окружающих. Ребёнок обязательно запомнит это и в следующий раз воспользуется своим конкурентным преимуществом для получения «минуты славы». У другого отлично выходит прыгать. Что ж, отлично. Устройте для него показательные выступления – домашние олимпийские игры. Мы своим девчонкам паркур в квартире организовали. Они были счастливы.
Глава 23. Третий уровень. За гранью возможного.
Когда Варя подросла немного, я стал так уверен в себе, что предложил жене задуматься о третьем киндере. «Бог троицу любит», «где два, там и три» – каких я только пословиц не вспомнил, мотивируя на принятие решения. Мне действительно казалось, что особых трудностей быть не должно. Мы прошли уже достаточно долгий путь и приобрели опыт, как обращаться с детьми. Справиться с еще одним карапузом – дело техники. Жена, как ни странно, не возражала. На торжественную выписку в роддом пришли старшие сёстры. Им была делегирована честь по очереди вести коляску до дома. Обе из кожи вон лезли от старания и проявляли максимум заботы. Лиза, видимо, прочувствовала этот момент и вскоре начала «тянуть одеяло» на себя. Все пережитые мной до того крики младенцев меркли в сравнении с ее руладами. Она умела так их закрутить, что терпению моему очень быстро приходил конец. Меня как будто подменили. Лизин плач просто выводил из себя. Я не мог его слышать. В это время я пришёл к выводу, что все дело в высоте звука и интонации. Действие младенческого плача на взрослого обусловлено индивидуальной переносимостью или непереносимостью последнего. С младшей дочкой как раз такая история вышла. Все приёмы, навыки и наработки полетели к черту. Весь накопленный опыт оказался коту под хвост. Я стал совершенным психом. Мне пришлось покупать себе успокоительное.

На фоне моего буйства и Лизиных представлений, а девочка категорически не хотела засыпать, изводя себя и нас плачем, больше похожим на кошачий концерт, жене наверняка тоже не помешали бы какие-то умиротворяющие таблетки. Как раз в этот период раздался один звонок. Звонили из «Типат Халяв», в буквальном переводе – «капля молока», а в жизни – отделение по уходу за младенцами и детьми до двух лет, в котором ведут наблюдение и ставят положенные прививки. Служащая поинтересовалась у супруги, как она себя чувствует после рождения третьего ребёнка, и нет ли у неё послеродовой депрессии. Может быть, ей нужна консультация и поддержка. Она, естественно, их поблагодарила и ответила, что все в порядке и помощь ей не требуется. «Надо было им сказать, что явные признаки депрессии наблюдаются у мужа», – огорчённо заметил я. И, в общем-то, это так и было. Ведь через три месяца жена снова вышла на работу, а я остался дома с «кошачьим хором».
Работникам «Типат Халяв» мы благодарны по сей день за их человеческое отношение, которое они проявили ещё к нашей старшей дочери, когда мы только переехали в Израиль с 8-месячным ребенком. Вместе с ней мы привезли с собой из России «книжку прививок». Снова приходится вспоминать о том, как были организованы прививки там, в Ижевске. В детской поликлинике возникало полное ощущение бесправия во всем, начиная с фойе и гардероба, где шустрые старушки тобой командуют, почём зря. Тут не стой, там не ставь, пеленать не здесь, туалет закрыт. Сплошные ограничения и запреты. А ведущий осмотр врач или медсестра глядят на вас с нескрываемой тоской. Улыбнуться ребёнку им и в голову не приходит. Тем разительнее выглядела перемена в отношении к детям в Израиле. Гражданства у Саши на тот момент ещё не было, а продолжать ставить прививки надо. Мы пришли в «Типат Халяв» узнать как страховка, которую мы на неё оформили, покрывает обслуживание. Нам дали очередь на приём. В назначенный час мы были на месте. Медсестра первым делом дала Саше игрушку. Потом вторую. Дочка не на шутку ими увлеклась. Пока мы вели разговор, она детально исследовала кабинет. Ползала под стол, стулья, вела себя очень раскованно. Игрушки падали из ее рук, мы их поднимали, они снова оказывались на полу. Ни одного замечания в ее и наш адрес не последовало. При этом медсестра умудрялась расспрашивать, нас какие прививки ребёнок уже получил и про состояние его здоровья. Про страховку не было сказано ни слова. Выяснив все, что ей нужно, сотрудница составила для нас график посещений и дальнейшей вакцинации. После взвешивания и измерения роста, она уже не как врач, а как обычная мама со «стажем» начала давать советы, чтобы нашу «стройняшку» привести в надлежащую форму. Чего только стоит рекомендация дать на пробу все подряд со своего стола, вплоть до селедки с картошечкой! Когда же в конце мы озвучили волновавший нас вопрос страховки, она ответила, что пока не знает, как с этим быть, но нам волноваться не стоит, ребёнок получит все необходимые прививки, которые получают дети, рождённые в стране. Мы вышли потрясённые и просветлённые. Оказывается можно так с улыбкой и без лишних формальностей проявить внимание к проблеме, раз речь идёт о здоровье ребёнка.
Я не хочу идеализировать израильские детские поликлиники и больницы. Они часто бывают переполнены и ждать очереди приходится долго. Но когда вы, наконец, оказываетесь на приёме, врач отнесётся к ребёнку максимально заботливо и обязательно после осмотра маленького пациента предложит ему наклейку с картинкой в награду за мужество. Или ещё какой-то подарок вручит. Без этого дети кабинет не покидают. В процедурных кабинетах та же система. Прежде чем взять кровь на анализ, медсестра поинтересуется у ребёнка всем чем угодно: в каком классе он учится, что любит есть, какой подарок ему подарили на день рождения. Профессиональное «заговаривание зубов» помогает детям снять стресс перед неприятной процедурой. Кроме того, отношение врачей к ним как к самостоятельным и взрослым людям тоже помогает им собраться и ощутить некую ответственность. И это не подход одного врача, это целая система приема.
Впрочем, на нашу Сашу эти увещевания не действовали совершенно. Она уже в коридоре вся сжималась в кулак, и разогнуть ей пальцы для забора крови было по силам лишь цирковым силачам – тем, что гнут в разные стороны подковы. «Предсмертный» вопль оглашал весь больничный этаж в тот момент, когда игла была еще по дороге к ее пальчику. Медсестра в ужасе шарахалась прочь и вытирала испарину. У меня самого после такой экзекуции ещё долго тряслись руки.
А Лиза на уколы почти совсем не реагирует. Переносит боль как настоящий стоик, почти без эмоций. Может в младенчестве накричалась, не знаю. Наше «противостояние» с ней длилось примерно год. За это время я превратился в изнурённого старика, вздрагивающего при одном лишь намёке на детский писк. Перейдя рубеж второго года жизни, Лиза неожиданно успокоилась и стала воплощением уравновешенности и оптимизма. Хотя в середине ночи она все еще встает и идет к маме – нет, не из-за кошмаров или болей – просто потому что ей «скучно спать». Но она больше всех у нас в семье любит обниматься и целоваться, за что и получила прозвище «лизун». «Как корабль назовёшь»…
Глава 24. Не идеальные предки
Часто ли я задаю себе вопрос, какой я отец? Справляюсь ли я со своими обязанностями, с той ответственностью, что взвалил на плечи, решившись завести троих детей? Нет, не часто. Рефлексия, которой я очень увлекался в мое «холостое время», уступила место деятельной суете семейного уклада. В потоке жизни, где дети образуют неудержимый водоворот, в который воронкой засасывает все подряд: ваши прошлые увлечения, неизжитые страхи и избитые комплексы, места для спокойного, взвешенного анализа почти не остаётся. И все же стоит порой попытаться абстрагироваться от насущного и спросить себя: а так ли ты прав, когда втолковываешь своим детям основы добра и зла? Показываешь где белое, а где чёрное в крапинку. Кто тебя уполномочил на эту миссию, кто дал тебе право судить и объявлять приговор? Не прав. Часто ошибаюсь. Признаю это.
Терзания на счёт родительского мастерства и долга вполне оправданы. Мы все несовершенны. Но вместе с тем, хотим добиться от своих детей идеала. Чтобы они были лучше нас. Не совершали те же ошибки, не теряли попусту время. Самоедством периодически полезно заниматься всем, помогает перевести дух. Но корить, а тем паче обвинять себя в недостаточном рвении уж точно не нужно. Желание быть хорошим папой – нормальное желание, а стремление быть лучшим ни к чему. Быть родителями – это работа. Повседневная, ежечасная, без выходных и перерывов на обед. В ней есть масса приятных сторон, от неё получаешь удовольствие, с ней никогда не скучно. От неё устаёшь, выматываешься, ее иногда слишком много. Но нельзя этот труд превращать в жертвоприношение. Не стоит приносить свою жизнь на заклание. Не оценят. В первую очередь, сами дети. И бросьте пытаться горы свернуть ради ребёнка. Ему это не нужно. Может быть, так хочется вам. Тогда, это уже о другом, а не о воспитании.


