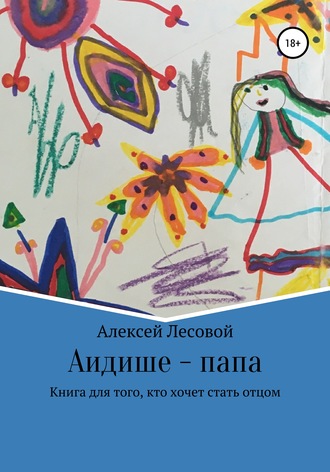
Алексей Лесовой
Аидише папа: книга для того, кто хочет стать отцом

Глава 5. Первый израильтянин. Новый уровень.
Когда мы ждали второго ребёнка, то были уже намного спокойнее и увереннее в себе. Жена ходила на плановые проверки. Возвращалась с них счастливая и обескураженная. Отношение израильских гинекологов к беременным совершенно отличалось от того с чем мы столкнулись, когда готовились к появлению первенца. Здесь врачи и медсестры излучали абсолютный позитив, не обращая внимания на страхи и фобии рожениц. «Беременность – это норма, а не болезнь», – транслировалась установка, проявляемая через спокойное и уравновешенное отношение к будущим мамашам в целом. Быть в «положении» – здорово и увлекательно. Да, это накладывает на вас определённые ограничения в жизни, но их не так уж много. В Тель-Авиве повсюду можно увидеть, как дамы с разными сроками активно занимаются спортом на открытых площадках. Их полно в магазинах и ресторанах, банках и парикмахерских. Они там не только проводят время, но и активно работают. В светской израильской семье в среднем три ребёнка. Поэтому беременность если и не перманентный процесс, то уж точно не экстраординарный. В Ижевске в своё время все выглядело с точностью до наоборот. Каждый визит в женскую консультацию становился стрессом. И дело не в очередях: здесь тоже, несмотря на предварительный заказ времени, приходилось как следует посидеть коридоре. Сама атмосфера действовала угнетающе. И настрой врачей был таков, что «сами виноваты, раз здесь оказались, теперь терпите, чего уж там жаловаться». Ничего не могу сказать, многие из них наверняка прекрасные специалисты и оказывают компетентную помощь, но ход их мысли имеет скорее негативное направление. Наученные горьким опытом, они готовятся к худшему варианту развития событий. Им всегда спокойнее перестраховаться, перебдеть, чем недобдеть. В таких условиях, как мне кажется, любое принятие решений исходит из правила «как бы чего не вышло». Я заранее прошу прощения у всех врачей, если мои слова их обидели или оскорбили. Вышеприведённый абзац я бы с удовольствием выкинул, но, подозреваю, что за годы нашего отсутствия в стране мало что изменилось. Такова система в целом, таково отношение общества к вопросу появления на свет будущих поколений россиян. Подвиг и страдание. Всё и вся должно быть связано с этими основными парадигмами сознания. Без одного нет другого.
Где-то на пятом месяце первой беременности жены ей поставили диагноз «повышенный тонус матки». Извините за столь пикантные подробности, но я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы физиологические особенности организма называть своими именами. По большому счёту семья, брак, рождение и воспитание детей очень физиологический процесс. В нем нет места чопорности и стыдливому умалчиванию подробностей. Не обязательно их выпячивать, но скрывать детали – чистой воды лицемерие. Можно, конечно, быть выше этого, продолжать жить своей жизнью, делая вид, что ничего особенного не происходит. А всякие там грязные пелёнки, срыгивание, понос и прочие прелести не имеют ко мне прямого отношения. Большинство мужчин выбирает для себя именно такую позицию. У женщин же выбора нет.
Итак, один из последних месяцев перед появлением Саши жене пришлось провести в стационаре, что подействовало на нее угнетающе. Ситуация неприятная, но весьма распространённая. На «сохранении» в России лежат множество женщин. Возможно, это единственный выход, не знаю. Подвергать риску жизнь младенца и его мамы я бы не стал ни при каких обстоятельствах.
Теперь, когда в животе супруги билось сердце моей второй дочери, я вспомнил о событиях четырёхлетней давности и адресовал жене вопрос: как там с тонусом, снова повышенный? Ее ответ меня мало что удивил, поразил. «Здесь не знают о таком диагнозе», – сослалась она на ответ своего врача – титулованного профессора. «Как это так!?» «Вот так», – улыбнулась она. Ее лицо излучало довольство и покой. «Значит, и в первый раз можно было обойтись без больницы, глядишь, Саша была бы поспокойнее? – озвучил я вопрос, вертевшийся у нас обоих на языке. «Теперь уже трудно сказать. Возможно, и так», – согласилась она.
Жена оставалась на работе вплоть до последних дней беременности. Чувствовала она себя хорошо. Срок подходил, и надо было выбирать роддом. Ближе всех к нашему дому – больница «Ихилов». До неё пешком 30 минут. Там и появилась наша Варя. А потом и Лиза. «Ихилов» – это целый медицинский городок с целой сетью запутанных коридоров и переходов из одного корпуса в другой. Там представлены практически все направления в медицине и ведётся амбулаторный приём пациентов всех возрастов. Также имеется стационар и приёмный покой для экстренных случаев. В одном из зданий расположился центр матери и ребёнка. Он не изолирован от других помещений, на входе и выходе не требуют пропуск или специальные средства защиты: медицинские халаты, одноразовые перчатки, «бахилы». Что касается последних, то уже одно произношение, фонетика этого слова вызывает во мне самые отвратительные чувства и воспоминания. Чур, меня! Когда график беременности недвусмысленно давал понять что пора бы уже Варе покинуть мамин живот, жена направилась в роддом. Сама, в гордом одиночестве, захватив лишь необходимые вещи. Старшая была временно под присмотром бабушки с дедушкой. Невзирая на сроки, роженицу взять отказались. Схваток нет, идите обратно. Появятся – вернётесь снова. День проходил за днём. Варя не спешила. Я в это время находился заграницей и отслеживал ситуацию только по телефонным звонкам. На очередное обращение к гинекологу жена получила исчерпывающий ответ: если схватки не начнутся ещё через день-два, будем стимулировать роды.
Я прилетел ранним утром. Огромный живот оставался на своём месте. Мы пошли прогуляться, и к обеду схватки все же случились, а уже вечером Варя осчастливила нас своим появлением на свет. Тогда я впервые присутствовал при родах. И это произвело на меня неизгладимое впечатление. Здесь муж и будущий отец, даже без предварительной подготовки, не просто зритель, а настоящий участник. Если все идет без осложнений, ты – единственный помощник акушерки, и она активно вовлекает тебя в процесс – тут ногу подержать, тут подтолкнуть, ножницы подать, и, в конце – концов – пуповину перерезать.
В третий раз, когда мы ждали Лизу, все прошло, если так можно выразиться, ещё обыденней, но отнюдь не менее волнительно. Мы гуляли на детской площадке с детьми, когда жена почувствовала приближение события. «Знаешь, милый, там, рядом с «Ихилов», есть ещё одна детская площадка. Давай переместимся к ней». Мы так и сделали. Спустя час она помахала нам рукой и ушла рожать. Я быстро отвёл девочек домой и побежал к ней. Попасть в родовую комнату в израильском роддоме – дело не из простых. Неважно, что идут схватки. Пока матка не раскрылась «на два пальца», есть такой медицинский термин и, наверное, не только тут, ходите, терпите. Рядом с регистратурой – небольшой “предбанник”, в котором набилось несколько стонущих женщин и их мятущихся мужей. Тут же гинекологический амбуланс. В перерывах между приемом экстренных пациенток, ожидающих рожениц вызывают на осмотр. Кого-то сразу увозят в родильное, а кому-то предлагают ещё погулять. Моя наученная опытом жена до последнего гуляла рядом с больницей. Поэтому в третий раз все произошло на удивление быстро. Снова меня приятно удивило то, что особых предосторожностей не наблюдалось. Нам выделили палату. Жена страдала и корчилась от боли. Я, как мог, ее утешал. Периодически заходила медсестра, окидывала всю картину спокойным взглядом и удалялась. Наученные удачным опытом с Варей, мы сразу попросили эпидуральную анестезию. «Да, да» – был ответ. Спустя какое-то время после повторной просьбы зашёл анестезиолог. Пообещал вернуться и исчез. В коридоре стонали женщины, но врача не наблюдалось. Пока я снова искал медсестру, колоть анестизию стало уже поздно. Третьи роды проходят быстро, – на это, собственно, и рассчитывает персонал, так как анестизия значительно замедляет процесс, а тут – такой конвейер! Кажется, что очередь на родовую палату не прерывается никогда. Но это уже отступление…
Итак, после перерезания пуповины, в почётные обязанности отца входит задача отвезти люльку с младенцем в специальный бокс, где дети находятся после родов и до выписки. Чтобы оказаться в этом боксе, нужно пройти немало коридоров, в которых толкутся другие люди. Никакой изоляции, никакой спецодежды, только бирочка на руке у младенца и у меня, подтверждающая нашу связь. У меня был небольшой насморк, а про маску на лицо я в суматохе забыл. «Ничего страшного, можете взять ее в руки», сказал мне врач в палате, после того как ребёнок впервые побывал на материнской груди. «Обменяетесь с ним бактериями. Иммунитет крепче будет».
Как заключение родовой эпопеи, центр матери и ребенка в «Ихилов», по словам жены – это каникулы перед наступающими бессонными буднями. Пока ребенок в детской комнате (сразу скажу, папа и мама могут забирать его к себе в любое время – дети находятся в специальных люльках на колесах, нельзя только покидать территорию больницы до выписки), мать отдыхает или занята другими делами – например, принимает душ, разговаривает по телефону или встречается с родными, а может быть – вышла в соседний торговый центр сделать прическу или пообедать в суше-баре. Никаких ограничений. Отец же, отвезя ребенка в бокс, также не понижается в правах. Бирочка на запястье дает ему право входа в больницу в любое время. Он даже может остаться на ночь (в кресле или в кровати с женой – если не оплачивает дополнительного места) – или на обед, вопрос желания.

Глава 6. «Варванский язык»
Гулять по Тель-Авиву с ребёнком – дело хлопотное, но приятное. Этот город, который на первый взгляд может показаться слишком шумным и скученным, располагает массой скрытых возможностей для детей самых разных возрастов. Просто надо знать, где искать. Детские площадки скрыты в глубине тенистых двориков и можно пройти мимо, ничего не заметив. Эти зоны «рекреации» чаще всего весьма миниатюрного размера. Высокая плотность населения и стоимость квадратного метра привели к тому, что в центре города застроено все. Поэтому детские площадки буквально приткнулись в углах дворов и аллей. Это обстоятельство обуславливает определённую интимность их посещения. Но для настоящей интимности надо правильно выбрать время. Иначе на пятачке будут резвиться сразу несколько весьма активных карапузов и не менее шумных родителей, или тренироваться спортсмены. Тель-Авив – город молодых. А у молодёжи появляются дети. И их тут великое множество. По субботам, а это главный и, зачастую, единственный выходной день у работающих в Израиле, около полудня все высыпают на улицы и в скверы, на набережную и бульвары. Кому где находится место. Захватывают из дома циновки, расстилают на газоне и наслаждаются жизнью. В метре от них расположилась ещё одна такая же компания и ещё, ещё… в тесноте, да не в обиде. Есть в иврите такое популярное выражение, аналога которого в русском я не припомню. На языке оригинала оно звучит «таасе хаим», что, примерно, означает «делай жизнь», кайфуй. Вот все вокруг этим и занимаются.
Мы с девочками с удовольствием присоединялись к этой праздной толпе и без остатка растворялись в ней. Варя хорошо росла, хорошо сосала грудь и хорошо спала в коляске. Правда, при одном условии: нужно было все время с ней ходить. Стоило только мне притормозить и сесть передохнуть на скамейку, Варя мгновенно просыпалась и устраивала рёв. Как только я продолжал движение – она мгновенно успокаивалась и засыпала.
Есть такая черта у местных жителей – не испытывать неудобства, когда рядом кто-то тебе дышит в затылок, а ты наступишь ему на ноги. Людей много, а места мало. Вот все и приучаются с младых ногтей абстрагироваться от окружения. «Я есьмь», а вокруг никого. Поэтому прогулки с детской коляской зачастую похожи на ралли. Вовремя не притормозишь – врежешься в кого-либо или машину заденешь припаркованную. Ещё страшнее – под велосипед попасть. Но все эти неудобства не мешали нам наслаждаться жизнью, особенно когда летняя жара ещё не вступила в свои права.
«В Израиле хорошо двум категориям населения: старикам и детям». Эта истина не подвергалась нами сомнению. Забота о ребёнке, своём или чужом, зачастую приобретает здесь гипертрофированные формы. Множество раз на улицах незнакомые люди с живым интересом заглядывали к нам в коляску и с умилением приговаривали «Эйзе Яффа! Яффе Яффия!». Что означало высшую степень красоты и привлекательности младенца. Со временем подобное любопытство начинало немного утомлять, но мы мирились с этими проявлениями внимания к нашим детям. Приятно же услышать, что ваш ребёнок «хамуд» (милашка), каких свет ни видывал. Впрочем, данные эпитеты, включая любимое многими здесь слово «мотек» (сладкий), распространяются на всех детей без исключения – возраста люльки или детской коляски. И им постоянно говорят об этом. Так они и вырастают, в полнейшей убеждённости в собственной исключительности. Целая страна влюблённых в себя индивидуумов. Неплохо, да? С другой стороны, кому ещё любить евреев, как не им самим?
Появление второго ребёнка в семье приносит не только радость, но и заставляет вдвое усиливать воспитательно-надзорную функцию. Пока занимался одним, уполз в неизвестном направлении другой. А если оба одновременно устраивают «концерт» с криком и воплями, то хоть разорвись на части. Одному нужна игрушка, второй непременно тоже хочет ее и никакую другую. И пусть она до того валялась на полу, всеми забытая и игнорируемая, теперь без неё не жить. «Я хочу яблоко». «Я тоже хочу», – сразу раздаётся вслед. «Кататься на самокате» – «и я хочу». Старшая выучит какой-нибудь трюк – приделает на голову платок и вот уже она «королева». Младшая ей подражает. «Обезьянничанье» – это не только игра, но и учёба. Повторить – значит, научиться чему-то новому для себя. Варя быстро догоняла Сашу. А когда у неё не выходило в честном поединке добиться первенства, она шла на всяческие ухищрения. Быстро раскусив, что младшим многое прощается, Варя лихо манипулировала своим возрастом. Когда ей было нужно, она объявляла себя большой. Мол, это для младенцев, а я взрослая, делать не буду. Но когда выгодно было побыть младшей сестрой, никогда себе не отказывала в этом. Младшим надо уступать! Она быстро соображает, эта хитрюга Варвара.
Самое страшное воспоминание о ее младенчестве связано у меня с переходом ребенка на искусственное питание. В Израиле декретный отпуск короток – три месяца. Поэтому, как правило, мама выходит на работу – ребенок получает смесь. Варя пить смесь отказывалась напрочь. Так как жена работала не очень далеко от дома, первое время она прибегала с работы покормить ребенка. Долго так продолжаться не могло, и мы приступили к активным экспериментам с детским кормом. Я купил в аптеке сразу все марки детского питания, решив опытным путём выяснить, какой заменитель молока наиболее приятен моему ребёнку. Очень скоро выяснилось, что никакой. Но я не отступал. Пришлось идти на подлог – смочить сцеженным молоком наконечник соски, а внутрь налить разведённую смесь. И это не действовало. И все же, спустя несколько дней, Варя выпила первую бутылочку «Матерны» – местной молочной смеси. Я радостно отрапортовал о случившемся жене. Пока я с ней разговаривал, дочь фонтаном выдала обратно все, что выпила до этого. Так мы начали чередовать приём внутрь с обратным «откатом», медленно продвигаясь вперёд, к окончательному избавлению от груди. Мы перебрали все смеси и даже проверили Варю на непереносимость коровьего молока…
Как-то раз я повёл старшую дочь на кружок по рисованию. Младшая мирно посапывала в коляске. «Сдав» Сашу учительнице, я отправился на прогулку. Стоял прохладный осенний вечер. Варя проснулась и потребовала добавки «корма». Перед выходом я ей уже скормил «дозу». Я развёл «Матерну». Она выдула все за минуту и снова затихла. Тучи сгустились. Подул прохладный ветер. Я решил поплотнее закрыть коляску и надвинул чехол до упора. Мы как следует прошлись. От Вари больше не было ни писка. Зайдя в помещение, чтобы забрать Сашу, я расстегнул чехол коляски. Зрелище, представшее моему ошалевшему взгляду, было достойно фильма ужасов. Вся коляска внутри была в «Матерне», которая, недолго побыв в Варином животе, вышла наружу. Перепачканное лицо дочери тем ни менее было совершенно невозмутимо. Она, кажется, даже довольно улыбалась. Никаких влажных салфеток и туалетной бумаги, которые всегда под рукой, не хватило бы на ликвидацию этого безобразия. Когда дверь класса отворилась, я схватил Сашу за руку и быстро поволок домой, предварительно снова закрыв чехол коляски. Учительница недоуменно посмотрела нам в след. Обычно после урока она расхваливала будущих «Леонардо». А тут я лишил ее этой возможности.
В детский сад Варя пошла в три года, как положено. Она оказалась выше всех детей на полголовы. Основной контингент ещё продолжал ходить с сосками. Варя же отвергла эту мысль, находясь ещё в животе у мамы. Воспитатели, покатав на языке чудное имя «Варвара», остановились на «Барби». Спустя пару недель у «Барби» появился и свой «Кен», которого звали Джонни. Будучи самым мелким в группе, он ловко оттеснил других претендентов на Варино внимание и занял место рядом с ней, не отступая ни на шаг. Варя благосклонно не возражала. Когда мы интересовались у неё, с кем она играла сегодня, шли перечисления исключительно мальчишечьих имён. Попытки выяснить, чем ещё занимались в течение дня с детьми воспитатели, наталкивались на короткий и однозначный ответ «ничем». Похоже, так и обстояло на самом деле. Единственное, что заинтересовало нашу девочку, была пятничная церемония встречи шаббата («кабалат шаббат»). Из детей по очереди выбирались «има шаббат» («мама шаббата») и «аба шаббат» – соответственно, «папа». Их усаживали за отдельный столик, наливали в бокалы «шаббатнее вино» (виноградный сок) и ставили перед ними «халу» – специальную сдобу, которую покупали родители «избранных», чтобы потом, после окончания церемонии, раздать всем детям группы. А еще «мама» с «папой» танцевали, пока остальные сидели по кругу. Вот этой ролью «има шаббат» Варя бредила. Она мечтала снова оказаться за отдельным столиком и уже мысленно выбирала себе партнёра.
В этом возрасте Варя была куда менее разговорчивой, чем старшая Саша. И половины слов мы не понимали, так скомкано она их произносила. А затем мы обратили внимание на иврит. До похода в сад она не знала, что это за язык такой, так как мы разговариваем дома только по-русски. Когда же началось общение в саду, иврит стал «заходить» легко – она не «зажевывала» слова, даже сложные звуки пошли как по маслу. Мы подозревали, что это может быть связано с местом ее рождения. Варин же русский язык, ввиду невнятности, мы, с Сашиной лёгкой руки, называли «варванским». Прирождённый лингвист, Варя до сих пор творит буквально на ходу. В какой-то момент Варя стала часто использовать в своём лексиконе слово «правильно». Спросит что-то у старших и тут же продолжает – «правильно?» Один раз, другой, третий. Я провёл с ней беседу. Объяснил, что такое слово – паразит. Она прислушалась. Теперь спрашивает – а какие ещё есть «пАразительные» слова?
Есть у детей такое качество – поймать звук, интонацию и изобрести неологизм. Они играют со словами также, как и со всем остальным. Так у Саши получился «весело-пед», потом она придумала «толстохуд». Варя занимается своим словообразованием. Из ее открытий мне по душе понятие «урочиться» – делать уроки. «Мы сначала поурочимся, а потом мультики будем смотреть», – деловито размышляет она.
Как-то целый день Варя повторяла себе под нос «шницель, шпацель», «шницель, пицель». И если со шницелем, который она очень любит, все понятно, то вот что означали два других слова она не знала и сама. В итоге, с моей небольшой помощью у нас вышла считалочка, которой мы с детьми пользуемся по сей день:
– Шницель, шпацель, макарон.
– Кто не съест, выходит вон.
Глава 7. Мирись, мирись…
Продолжая тему языка и речи, дети – мастера придумывать прозвища. Особенно в возрасте до пяти лет. Одно время Варя вдруг стала называть Сашу «багугой». Кто это такая и с чем ее едят, она нам не объяснила. «Багуга» и «багуга», что тут обидного? Но Сашу это обращение доводило до слез. Мы пытались ее образумить, успокаивали как могли. Не помогало. Пришлось в приказном порядке Варе запретить употреблять это слово по отношению к Саше, хотя оно ей очень нравилось. Вскоре о «багуге» забыли. Мир был восстановлен. Но с тех времён у меня остался стишок на эту тему, как не обижать и не обижаться. Вот он:
Моя сестра – багуга!
Мне больше не подруга.
Не буду с ней играть!
Не буду разговаривать
Залезу на кровать.
Мне в жизни очень туго –
Ведь папа мой – Багуга!
Умыться заставляет
И застелить кровать.
Не буду его слушаться
Уйду в чулан рыдать.
И мама от испуга,
Что дочь её – Багуга
Сбежит из дома сразу же
Или уйдёт гулять.
И папа, хлопнув дверью
Вдруг поспешит за нею
Ну и сестра, конечно,
не сможет устоять.
Обидно друг за друга,
Когда в семье – Багуга
И от неё не скрыться
Не стоит и мечтать.
Но если постараться –
То можно догадаться
Что хватит обижаться
И младших обижать.
Тогда сестра – подруга
И мама без испуга,
Не сделав и полкруга
С прогулки возвратившись
Бежит всех обнимать.
А папа дверь прикроет
И тут же рот откроет
Идиллия семейная –
Давай всех целовать!
Так лучше улыбаться
И без обид общаться
Не плакать и не драться
Наоборот стараться
Помочь и поддержать.
Так станет все прекрасно
Скажу вам не напрасно -
Багуг нам не видать!

Без конфликтов не бывает. Это попросту невозможно. Неважно сколько тебе лет, у тебя все равно есть собственные желания, и они зачастую не совпадают с намерениями других. И тогда надо либо отстаивать свою позицию, либо смириться с чужой. Дети мириться не готовы. Они бессознательные эгоисты. Очаровательные ангелочки, не ведающие ещё чувства жалости и сострадания. (Мы же взрослые – эгоисты абсолютно сознательные и потому куда менее симпатичные). Они убеждены, что мир крутится вокруг них. И пока они дети – они в этом правы.
Например, Варя, в возрасте около трёх лет, просыпаясь утром первым делом надевала на голову корону, находила под кроватью свои туфли, заявляя на полном серьезе: «Я королева». В этом виде она уже шла к нам, здороваться. «Я красивая?» – полувопросительно-полуутвердительно интересовалась она нашим мнением. И только получив положительный ответ, шла уже заниматься другими утренними делами.
Учиться сопоставлять свои желания и интересы с чужим мнением никогда не рано. Родительская задача, по моему мнению, состоит в том, чтобы эти конфликты и обиды не переходили в стадию агрессии и травли. Подшучивать можно, издеваться – нельзя. Покричать – пожалуйста, только, умоляю, не долго, а то папа с мамой не лыком шиты и тоже умеют издавать весьма воинственный вопль, выходя на тропу войны за тишину и спокойствие. Ну, и конечно, борьба борьбой, но пускать руки, ноги и другие части тела в ход нельзя ни в коем случае! За неспортивное поведение – жёлтая карточка с отбыванием в углу, с последующим раскаянием и обещанием больше не повторять печальный опыт.
Вопрос соперничества особенно остро стоит у детей, чья разница в возрасте не существена. Это перманентная борьба кому быть первым: «Я входную дверь открываю», «Я первая на этот стул села!», «Ты уже вчера была первой, теперь моя очередь!». Садимся за стол обедать. «Она меня послала мыть руки, а я уже вымыла», – сердито заявляет мне средняя Варвара. «Она их некачественно помыла», – парирует старшая Саша. Не хватает младшей Лизы. Она застряла в ванной. Куда-то потерялась ее табуретка и ей не дотянуться до крана. Но она уже знает, как отыграться и опередить сестёр в чем- то другом. Каждый вечер девочки желают нам «спокойной ночи» и целуют перед сном. Теперь Лиза прибегает первая, ещё за полчаса до укладывания в кровать. После этого, счастливая, забирает свою бутылку с молоком и гордо шествует в спальню. Это сладкое чувство победы!
Конкурентная среда вещь благая – быстрее на ус наматываешь, закаляешься в борьбе за собственные привилегии. Но для родителей это соревнование – головная боль. Кто прав, кто нет? Кому оказать предпочтение, чтобы не обидеть остальных? Пошумев и не поладив между собой, в итоге все идут жаловаться к вам. А вы ещё тот «царь Соломон». К концу дня выслушивать в очередной раз кто и что первым взял, и кто у кого что отнял, сил уже нет. Хочется наказать всех и сразу – главное, чтобы они перестали галдеть. По правилам, конечно, надо выслушать по очереди и попытаться каждому указать на ошибку. Проводить такое «дознание» – дело порой совершенно безнадёжное. Оно напоминает мне детский стишок: «Мы с тобой шли? Шли. Кожух нашли? Нашли. Я тебе его дал? Дал. Ты его взял? Так, где же он? Кто? Кожух. Мы с тобой шли? …” и так по кругу. Изобличение «виновных» вовсе не означает, что в следующий раз дети не совершат все по той же схеме, только поменявшись местами. И за решением проблемы они снова придут к вам, и снова начнётся разбор полётов «Мы с тобой шли…». Важнее всего в этой «сказке про белого бычка» чтобы конфликт не затягивался. Чтобы и обиженные и обижающие простили друг друга. Впрочем, пока они маленькие, настроение у них может меняться с поразительной скоростью. Только что ребёнок весь был в слезах, рыдал, и вот уже он заливается счастливым смехом. А вы все воспринимаете серьезно, как и положено взрослому человеку. Пока вы отходите от слез и крика, обрушившихся подобно майской грозе внезапно и беспощадно на ваши головы, готовя параллельно нравоучительную речь, дети уже все забыли. Переключились на что-то другое. И ваша гневная отповедь пропадает всуе. У ребёнка скорости другие. Пока вы разгонялись, он уже перенёсся в другое измерение. Пойди, поймай его там со своей позапрошлогодней моралью. Ссоры и конфликты были, есть и будут. И это нормально. Возможно, встречаются бесконфликтные семьи. Не уверен, но допускаю. И детские игры, не оканчивающиеся слезами и обидой, вполне распространены. Но избежать душевных «ран» нельзя. Да и не нужно. Просто с детства нужно уметь мириться. И уметь извиниться друг перед другом. Родители должны этому научить. Это один из тех навыков, который останется с вашим ребёнком на всю жизнь. Поверьте, он много пользы принесёт его обладателю. А когда вы научились просить прощения, делать шаг назад в своём упрямстве и гордыне, можно снова с пеной у рта отстаивать свои интересы и снова вступать в конфликты. Тем же, кто не испытал в юном возрасте данный опыт, придётся навёрстывать упущенное став старше. И это может оказаться куда болезненней для самолюбия. Так что деритесь и миритесь, покуда маленькие.
Глава 8. Ещё о выяснении отношений
Выработка общих принципов воспитания ребёнка – дело первейшей важности для родителей. Желательно приступить к докладам и прениям ещё задолго до роддома. И если вдруг обнаружатся кардинальные различия в подходе к столь щепетильному предмету, может вам стоит с роддомом повременить. Но если курок уже спущен и ваш общий эмбрион взял низкий старт на выход из положения «лёжа», интенсивность дискуссий о «добре и зле» стоит резко повысить. Ибо, не договорившись заранее, не оберёшься проблем после того как все случится. Поэтому очень важно умерить свои амбиции и постараться прийти к компромиссу. Все мы из разных семей и, хотим того или нет, но несём на себе всю жизнь отпечаток того духа, что если не царил, то незримо присутствовал в наших младенческих – подростковых пенатах. Мы пропитываемся этим духом подспудно, походя, не прилагая ни каких особых усилий. Уникальная атмосфера жизни каждой семьи проникает в душу ребёнка и в дальнейшем становится его своеобразной аурой, незримо окружающей своего носителя во взрослом существовании. Это ещё и вектор, по которому мы интуитивно выбираем себе кандидатов в партнёры. Потом кто-то отсевается, отваливается, отслаивается и… остаётся один, с которым мы решаем связать свою жизнь.
Я, к слову, свою будущую жену заприметил исключительно благодаря интуиции. Произошло это следующим образом. Мы оказались рядом за одним столиком на дне рождении общего знакомого. Народу было полно. Именинник – человек очень общительный и творческий. Соответствующей категории подобралась и вся честная компания. Тосты в виде поздравлений – выступлений следовали один за другим. Были конкурсы и сценки. И вот во время одной такой викторины нужно было нарисовать что-то соответствующее теме, заданной виновником торжества. Со своей соседкой я был знаком шапочно. Мы пару раз пересеклись по работе и оказывались вместе на каких-то мероприятиях. Но не часто. И все. Тем ни менее, интерес к этой миловидной и очень привлекательной особе у меня уже проснулся не шуточный. И вот, редкая удача. Листок с рисунками переходил по кругу. И от неё достался как раз мне. Помню, там была изображена компания пингвинов. Их было несколько, и все они выглядели очень забавно. Какова тут была связь с именинником, я упустил, но не забыл почему-то поинтересоваться, не ее ли это семейка. Девушка лукаво улыбнулась и ответила утвердительно. Не думаю, что она сделала это специально и даже уверен, что не обратила ни малейшего внимания на мою попытку заигрывания, обернув все в шутку. Через мгновение мы все переключились на что-то другое. К импровизированной сцене вышел с гитарой в руках очередной бард. Мне же с того вечера запомнился образ большой и дружной семьи, изображённый на помятом листке бумаги. Наш роман, как вы догадываетесь, имел продолжение. А с тремя пингвинятами мы теперь дрейфуем на одной льдине.
И вот, сойдясь, соединившись с человеком из другого семейного очага, очарованные близостью и взаимопроникновением (во всех положительных смыслах этого слова), мы начинаем невольно сравнивать наши представления о том, как надо и как у кого было дома в детстве. Далеко не всегда это сравнение оказывается выигрышным. Но, на то мы и взрослые люди, чтобы расхождение в основных принципах не ставили нас в тупик. Достаточно сказать себе, что это лишь образец, болванка, доставшаяся нам в наследство. Ее можно, нужно обработать, доработать и создать на этой основе что-то своё, уникальное, то, чем уже будут «пропитываться» наши собственные дети. И здесь в смешении «ароматов детства», флюидов родительского духа с такими же образцами партнёра кроется множество как приятных, так и не очень, открытий. Самое непростое, что внешне на вербальном уровне они мало артикулированы. Вы зачастую даже не можете толком объяснить мужу, жене, что не так в этом кресле, стакане, еде, положенной на тарелку, пусть и издающей вполне аппетитный аромат. Вас что-то коробит, лишает внутреннего покоя. Вы напрягаетесь вроде бы из-за пустяка. А это «след» не попал в «след», два «запаха» детства вступили в противоречие с друг с другом и … произошёл «взрыв летучих газов».


