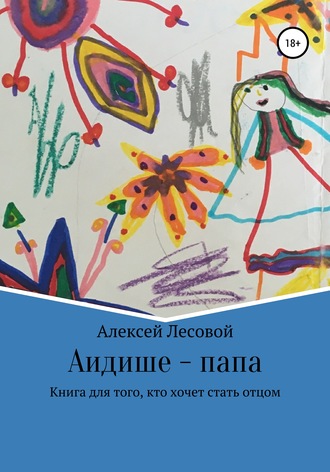
Алексей Лесовой
Аидише папа: книга для того, кто хочет стать отцом
Я уверен, что многие, кто прочтут выше приведённый абзац, точнее не так, не многие, кто вообще возьмёт в руки эту книгу, а тем более дойдут до этой главы, могут, возмутиться и сказать: а зачем папе вообще вмешиваться в то, что одевают девочки? Его ли это компетенция!? Мама разберётся куда быстрее и лучше, предоставьте это ей и дело с концом, чего тут обсуждать. И они будут правы. Но, как я заявлял в самом начале, я беру на себя смелость, наглость, право, вмешиваться во все, что происходит у меня в семье, не разделяя происходящее на мужские и женские половины. Их, этих половин, нет. Есть лишь нежелание некоторых отцов это замечать. Ещё раз, для верности. Теперь я обращаюсь напрямую к папам. Если вы всерьёз заявляете, что вам не безразлично то, какими вырастут ваши дети, какие у них будут интересы в жизни, манеры, привычки, как они будут выстраивать отношения, в том числе и с вами, когда подрастут, то вы обязаны принимать ежедневное и перманентное участие во всех семейных вопросах, а не перекладывать эту ответственность на других. Это вовсе не означает, что трудясь на семейной ниве 24 часа в сутки, вы получите заранее желаемый результат и ваши дети воплотят все ваши чаяния. Отнюдь. Но эта ежечасная, ежедневная, ежегодная работа, безусловно, приблизит их к этому. А главное, вам пенять будет не на кого. Не вышло, не получилось, так как задумали, что ж, жаль, но вы хотя бы попробовали. А результат все равно будет, пусть и не стопроцентный. Рано или поздно дети оценят эти усилия, и ваша духовная связь с ними будет намного крепче.

Глава 17. «Маленькие взрослые» или детки как детки
Не так давно один мой знакомый, с которым жизнь не сводила нас 8-9 лет, а тут неожиданно свела, завел «глубокомысленный» разговор о том, какой фильм или книга За последние годы впечатлил наиболее сильно и потряс основы бытия, что называется. Дело происходило в гостях. Мы были уже хорошо «разогретые» и такой философский подход вполне подходил к ситуации. Я напряг свою память, пытаясь выдать что-нибудь эдакое. Но ничего в голову не приходило. Абсолютно ничего. Нельзя сказать, что за последние годы я много читал и пристально следил за кинематографом.
Под руку попадались то одна, то другая книги, и новинки кино мне были не чужды. Но чтобы потрясло? Фильмы и литература были скорее фоном, театральной портьерой, за которой разворачивались события, действительно перепахавшие всю мою сущность. Дети и семья совершенно вытеснили на периферию все остальные интересы, составлявшие основу моей холостяцкой жизни. Не из сюжетов чужих драм и трагедий, пусть и признанных классикой, черпал я теперь свои эмоции. Жизнь с завидной регулярностью подбрасывала мне их сама. И пусть их масштаб не сопоставим с эпическими героями прошлого, меня эти «маленькие трагедии» и «маленькие комедии» трогают куда сильнее. А уж если задуматься о потрясении, испытанном мною в последние годы, то ничего сопоставимого с появлением на свет ребёнка со мной не случалось. Пожалуй, это самое замечательное событие за всю мою жизнь. Я не знаю с чем можно сравнить ощущения, когда ты берёшь в руки только что появившегося на свет малыша. Как рассказать, что ты чувствуешь, когда тебе доверяют перерезать пуповину, державшую и кормившую ребёнка всю предыдущую жизнь. Ибо она началась не сегодня, когда ты его впервые увидел воочию, а ещё девять месяцев назад. До появления на свет он дышал, двигался, радовался или расстраивался из-за чего-то одному ему известного. Вообще, стоит к человеческой жизни прибавлять этот срок, когда ты уже здесь, но ещё «там». И вот один взмах ножниц положил конец связи, прочнее которой у тебя не было и уже никогда не будет. Я выпустил «джина из бутылки», обрёк его на свободу, не даровал жизнь, но прикоснулся к таинству творения. Я воспринимаю это как самую большую честь, которую мне выпало заслужить. Извините за пафос. Больше не повторится. Но если ты оказался свидетелем чуда, трудно удержаться от патетики.
Вернёмся к нашим «барашкам», если так уместно будет выразиться. В этой главе я хотел поразмышлять вот о чем. Как нам относиться к детям: считать их слегка уменьшенной проекцией старших или «инопланетянами», однажды посетившими наш мир, чтобы затеряться в нем, забыв о далёкой прародине? Лично для меня этот вопрос не имеет однозначного ответа. Хотя в душе я склоняюсь ко второму варианту, боюсь, большинство со мной не согласится. И пусть в домашнем «микрокосме» «пришельцам» совершенно нет необходимости подстраиваться под окружающих. Рано или поздно им все равно предстоит выйти из атмосферы родительской любви и заботы в открытый космос улицы и школы. Надо отдавать себе отчёт, что там с вашими детьми столкнётся множество взрослых. Это неизбежно. И часть из них совсем не будет в восторге, как от самой встречи, так и от необходимости вести себя особым образом по отношению к ребёнку. К этому тоже нужно быть готовым. Впрочем, довольно накалять страсти и нагонять драматизма. Не так сегодня все страшно и опасно, как было когда-то в стародавние времена. Розгами сорванцов уже не секут, задарма работать не заставляют. Это веков пять назад детей в прямом смысле за людей не считали. Даже на кладбище места им не было. И пороли тогда не за провинность, а впрок, чтобы ума в отроке прибавилось. И только Эразм Роттердамский и его сподвижники гуманисты высказали крамольное мнение о том, что ребёнок тоже человек и относиться к нему нужно соответственно. А потом уже идеалист Песталлоци сделал удивительное открытие: оказывается, у каждого киндера и бамбины есть врождённые наклонности. Вот к ним-то и надо присматриваться, развивать, а не подгонять всех под одну гребёнку, чуть что не так – сразу в угол, на колени посреди гороха. К 21-му веку все изменилось настолько, что теперь уже взрослых подвергают остракизму за неосторожное слово в адрес подрастающего поколения. Или, не дай бог, старшему продемонстрировать своё превосходство в силе, остановив зарвавшегося подростка, досаждающего своими выходками окружающим. И пусть все устали от этого клоуна, но никто пальцем не пошевелит, чтобы его урезонить. Вы что, а права ребёнка?! Нынешние времена, в отличие от ренессансных, можно назвать «детоцентричными». Такое впечатление, что все сконцентрировалось вокруг этих милых и невинных «цветов жизни», а общественный договор запретил даже в мыслях какое-либо покушение на ограничительные меры в их отношении. Нельзя – насилие над личностью! Я немного утрирую и передёргиваю. Но, на самом деле, тема серьёзная. А попытки «вычленить» детей из общества, предоставив им особый неприкосновенный статус, наблюдались ещё в моё пионерское существование. В разных концах необъятной родины все выходило с разной степенью идиотичности, но формальные установки соблюдались неукоснительно. Как же тут не вспомнить классическое: «Дети – хозяева лагеря».
Сменилась эпоха. Сменилась и риторика. Теперь главный акцент делается на психологию. «Дети – это особые существа, детский мир не похож на наш, мир взрослых» – можно прочесть в книгах по воспитанию. Об этом же твердят и популярные гуру педагогики. «Не наказывайте своих детей, не укоряйте их ни в чем, главное, не стыдите!» Иначе они вырастут скрытыми неврастениками с кучей комплексов, не считая Эдипова. «Ребёнок ранимое и беззащитное существо, ему нужна ваша любовь и всепрощение. Несите свой родительский крест. И да воздастся вам сторицей». В следующей жизни, добавляю я от себя.
Мне, как родителю, давно и безнадёжно «погрязшему» в уходе за детьми, приходится довольно часто сталкиваться с утверждениями, вроде «у детей свой язык, они воспринимают наши слова через игру, поэтому на них нельзя обижаться и, конечно, нельзя обижать». Очень хочется согласиться с этим. Но, почему-то не получается. Я, как взрослый, имею право на обиду, или это тоже у меня отняли, отдав подобную прерогативу исключительно в детское распоряжение? И снова на ум приходит затёртый до дыр лозунг из советского прошлого: «Каждый ребёнок имеет право на детство». Или как-то похоже он звучал, уже не помню. В семидесятые, когда я рос, детский труд на фабриках и заводах давно был искоренён, и понять, это призыв или это утверждение было непросто.
Впрочем, я отвлёкся. Существует ли он на самом деле – «мир детства», особенный, волшебный и недоступный взрослым? Или все ограничивается магазином со схожим названием, являвшимся когда-то обязательным атрибутом центральной части любого более-менее приличного города. Лично на меня посещения «Детского мира», ещё с тех самых пор, когда этот мир был и моим тоже, наводили панику или вводили в ступор. Это место подавляло своей избыточностью, бессмысленным круговоротом вещей и людей, и связанным с этим нездоровым ажиотажем вокруг самых обычных игрушек, которые запросто можно было встретить в каком-нибудь маленьком магазинчике у себя в районе. Ну, пусть не все, но многие из них. И там никого особо эти вещи не интересовали. Они лежали себе на полках безропотно и безучастно. А как они ещё могли там лежать, ведь они игрушки – деревянные, пластиковые, плюшевые. Решили родители их купить – пришли и купили, без суеты и стояния в очереди. А там, в этом «Мире», сделать подобное без риска потерять в толпе шарф, шапку или самого ребёнка, было почти невозможно. Короче, я снова не о том.
Вопрос ребром: стоит ли относиться к ребёнку как к кому-то особенному, действительно отличному существу от нас, взрослых людей? Оговорюсь сразу. Считать своего ребёнка особенным, на мой непросвещённый взгляд, совершенно правильно и естественно. Он не похож на всех остальных уже потому, что он ваш и больше ни чей. Хольте, лелейте и любите его как можете! Но стоит ли заявлять об этом во всеуслышание и демонстрировать свою ласку на каждом углу и при каждой встрече, особенно с малознакомыми людьми, я не уверен. Опять же, это личный выбор, дело вкуса и воспитания.
Первое лирическое отступление. С «еврейцами» можно дружить.
Саша пошла в детский сад, не зная ни одного слова на иврите. Впрочем, определённый опыт посещения подобных заведений у неё и у нас уже был. В Ашдоде ее водили в «русский» семейный садик. А тут мы переехали в Тель-Авив. Ей исполнилось 3 года и нам предоставили путёвку в муниципальный детсад. Саша, в отличие от двух младших сестёр, появилась на свет в России, в Ижевске, откуда мы родом. Ее привезли в Израиль в восемь месяцев. А поскольку дома мы разговариваем по-русски, выучить что-то на иврите ей было сложно. Мы заметно переживали, как все сложится и сумеет ли она найти общий язык с детьми и воспитателями. Саша – девочка очень искренняя и добрая. Она уже с первых месяцев своего существования готова была пойти на любой возможный контакт. Ещё не умея толком ходить, радостно шлёпала навстречу малышам и спокойно делилась с ними игрушками. Чаще всего такая попытка заканчивалось ничем. Местные карапузы сидели кружком и не реагировали на незваную гостью. У них были свои интересы, игрушки, своя компания. Но Саша не отчаивалась и в следующий раз поступала точно также. Вот на это ее дружелюбие мы и рассчитывали.
И, действительно, приняли ее ласково. Дети в группе наперебой предлагали играть с ней. Она на какое-то время стала даже популярной. Для игры в этом возрасте общение не главное. Дети спокойно обходились без вербального понимания слова, им достаточно было общего смысла действия, а правила игры от перемены языка не меняются. В «дочки-матери» или «ляпки» можно играть с кем угодно. К тому же, Саша была не единственной «иностранкой». Тель-Авив – город интернациональный. В нашей группе оказались французы, мальчик и девочка, которые находились в том же языковом ауте, что и наша Саша. В других группах учились испаноговорящие дети, а также англоязычные. Кстати, француз Симон стал самым первым закадычным Сашкиным другом. Они не хотели расставаться ни в садике, ни после, на детской площадке.
Наличие детей из разных стран мало смущало воспитателей сада. Они привычные. Какой бы ни был твой родной язык, в группе все разговаривают только на иврите.
Скоро Саша начала выдавать нам первые слова, а потом и предложения. Она постоянно что-то бормотала себе под нос. Видимо, вспоминала и повторяла то, о чем шла речь на занятиях в садике. Месяца три занял у неё анализ и усвоение материала. И вот новый язык встал на своё законное место. Говорила она тогда редко, но понимала почти все. Таким же способом иврит выучила средняя, Варя. Мы с ней не занимались предварительно, имея перед глазами пример Саши. Спустя какое-то время обе они «защебетали» на иврите дома. Это распространённая ситуация в Израиле. Дети между собой общаются на одном языке, а с родителями – на другом. Или старшие их спрашивают на русском, французском, английском – кто откуда приехал, а те отвечают на иврите. Наблюдая достаточно часто примеры двуязычия, и слыша, какие ошибки в произношении и ударении делают многие носители «суржика», я категорически воспротивился переходу на иврит у нас в семье, чем значительно усложнил на какое-то время девочкам жизнь. Каюсь. Но им придётся вырасти настоящими билингвами, как минимум, а не говорить с акцентом, от которого уши сворачиваются в трубочку, а смысл слов меняется на противоположный. Точка. Такова моя отцовская воля! Некоторые родители и «стендаписты», впрочем, находят в этом повод для шуток и смеха. Мне же такое произношение режет слух. И с этим ничего не поделаешь. Кому как повезёт с папой. Не у всех же с рождения, даже в Израиле, «еврейское счастье».
Детский сад нас впервые вплотную столкнул с местными культурными особенностями. Не то чтобы мы о них совсем не знали, но теперь приходилось вести диалог с непосредственными обладателями израильского культурного кода. Мы справедливо предполагали, что такой контакт может привести к серьёзным последствиям. И не ошиблись. Степень раскованности и раскрепощённости уроженцев «Эрец Исраэль» уже давно притча во языцех. О ней ходят легенды во всех странах, куда добрались сыны Давида, а они проникли даже в Антарктиду и в безвоздушное пространство. Все дело в том, что израильские родители очень любят своих «Моше» и «Адамов» с «Евами» и почти ни в чем им не отказывают. И почти никогда их не наказывают. Подчёркиваю, эта особенность касается именно израильтян, а не всех евреев вместе взятых, рассеянных по планете в разной степени концентрации. В данной стране за 72 года ее существования уже выросло несколько поколений «непоротых» евреев. Евреев без страха и комплекса неполноценности. Евреев, не боящихся шуметь в самых неподходящих для шума случаях и делающих это с завидным постоянством в любой точке мира. Вселенскую скорбь в их печальных глазах заменило безмятежное ощущение собственного права быть самим собой и вести себя так, как будто ты в пустыне, а не на людном перекрёстке в центре мегаполиса. Короче, сбылась мечта пророка Моисея: Израиль теперь населён свободными людьми. Они свободны от многого, некоторые, в том числе, и от привычной в нашем понимании культуры. Что поделать, без издержек нигде не обходится, даже в «земле обетованной».
Плоды свободного еврейского воспитания мы не раз удосуживались наблюдать на улицах, в торговых центрах, да что за примером далеко ходить, прямо у себя под окнами. Дети играли, шумели, кричали, бесились и – это нормально. Но когда они переходили всякую грань и превращались в сущих бестий, им все равно не попадало. На них изредка покрикивали родители, и все продолжалось своим чередом. Там, где собирается больше одного израильского ребёнка, «гвалт» стоит невозможный. Тормозов у этих детей просто нет. Примерно также ведут себя и их родители. Со стороны кажется, что в самом разгаре ссора, вот-вот дойдёт до рукоприкладства. Но нет. Отнюдь. Обычный оживлённый разговор, даже не на повышенных тонах. Громогласность местного населения меня по сей день повергает в шок. Неужели нельзя все то же самое сказать спокойно и на несколько октав ниже. Но нет. Лужёные глотки каждого иудея стремятся превзойти друг друга в трубном гласе. И вот в эту компанию «соловьёв – разбойников» попала наша Саша. А потом наша Варя. И скоро там же окажется Лиза. И ничего страшного не случилось и не случится. Я не сомневаюсь в этом. Дети смогут найти общий язык с местными и вместе с тем остаться нашими детьми. С «еврейцами», как их назвала однажды Саша, можно дружить. И друзья появятся у каждой. С них в чем то можно брать пример, особенно, как не тушеваться в незнакомой компании и не стесняться проявить себя, а что-то явно не стоит брать на вооружение. «Тише, тише» – умоляю я своих девочек. «Вы можете все то же самое сказать спокойно». Но, увы. Они меня не слышат, поэтому приходится переходить на крик. В общем, мы, как и они, уже почти настоящие израильтяне.
Глава 18. «Дайте до детства плацкартный билет»
Моя старшая дочь Саша мне как-то заявляет: «Я не хочу быть третьеклассницей! Хочу остаться во втором! – Почему? – Не хочу взрослеть. Хочу быть как Питер Пен! А то придется потом умирать, на работу ходить…»
Воспринимают ли дети иначе, чем взрослые, то что мы им говорим? Думаю, да. У них не выработалась ещё серьёзность и каждая вещь или дело воспринимается как игра, развлечение.
Прогулка на улице – это череда детских площадок и кафе с магазинами, где можно купить что-то вкусненькое, а вовсе не пустое хождение из точки А в точку Б. Занятия алфавитом – возможность продемонстрировать звукоизвлечение из разных предметов и демонстрация силы собственных голосовых связок, а не перечисление букв в строго утверждённом порядке. Но фантазийный мир ребёнка и мир повседневности его родителей существуют не в параллельных реальностях. Они за день множество раз пересекаются и накладываются друг на друга. Чаще всего без обоюдного ущерба. Дети очень гибкие в этом смысле, они намного больше конформисты, чем мы. Они не видят причин отстаивать свою позицию любой ценой, держать данное слово до конца, проявлять принципиальность в важных для них вопросах. Им удобнее переиграть что-то в своей игре и подстроиться под новые условия. Естественно, условия эти, как правило, ставят родители. И если они не слишком усердствуют в закручивании гаек относительно дисциплины, то ребёнок спокойно реагирует на происходящее. Если же давление сверху слишком сильное и безапелляционное, то существует вероятность того, что ребёнку станет комфортнее в выдуманном им самим мире, мире игры. И он начнёт психологически туда «мигрировать». В крайних ситуациях возможен и почти физический уход от реальности.

Если для детей нет проблемы моментально переключиться с игры на действительность, то нам, взрослым, это даётся с трудом. А кому-то вообще не даётся. Мы чаще всего имитируем интерес к детским фантазиям, удачно прикинувшись частью декораций, и быстро устаём вникать во всякие детали, которыми буквально пестрит фантазийный мир ребёнка. Скорость смены образов и ситуаций в детской игре мне напоминает сны. В них любая фантасмагория кажется совершенно приемлемой и разумной, а ход повествования претерпевает невиданные ни в одном артхаусном шедевре кульбиты. Становясь старше, мы теряем способность фантазировать безотносительно результата, целей и задач реальной жизни. Мы строим планы, просчитываем перспективу и фантазируем, но фантазии наши весьма приземлены и практичны. А у детей нет такой нужды.
Итак, да, мы отличаемся от них. У детей есть свой мир, в который взрослым вход открыт, но мы сами себя лишили возможности в нем оказаться. Чаще всего невольно. Выросли и все забыли. И по большому счёту, нам не так уж и интересно, что там. Нас окружают срочные дела, работа, друзья и знакомые. Поэтому мы стараемся прислушиваться к ребенку, когда он пытается поделиться с нами своими открытиями и историями из «того» мира, но делаем это исключительно из вежливости и не слишком внимательно. Нас больше интересует его успеваемость, опрятный вид, хорошие манеры.
Но можно ли сказать, исходя из выше перечисленных рассуждений, что дети особенные существа, отличные от нас, взрослых? Безусловно, ставить знак равенства было бы опасной ошибкой, упрощая и огрубляя все и вся, назвав их просто «маленькие взрослые». На самом деле, дети все прекрасно понимают про наше поведение. Они могут не знать значение некоторых слов, не постигать до конца смысла наших поступков, обусловленных просчётом ситуации на несколько шагов вперёд, но основной смысл наших телодвижений от них не ускользнёт. Не стоит себе льстить и думать, что мы такие сложные и умудрённые опытом титаны мысли, а операции, которые мы прокручиваем у себя в голове, принимая в расчёт сразу множество разных факторов, напоминают шахматную партию. Тоже мне Корчной с Каспаровым! Немного подслушав и поразмыслив над увиденным, ребёнок сам для себя сделает верные догадки и в самый неподходящий момент (а когда он бывает подходящим?), озвучит выводы. И они будут точны и верны. Шах и мат.
Фантазийный мир и мир повседневный прекрасно умещаются, уживаются в детских представлениях о жизни. Ещё раз. Если родители сознательно не ломают эту картину мироздания, то конфликтов не возникает. И те навыки самостоятельности, первые обязанности, которые ставятся перед ребёнком взрослыми, воспитателями детского сада, учителями школы, не способны причинить какой либо ущерб игровой составляющей жизни детей.
Так как правильно относиться к ребёнку, кем его стоит воспринимать? Использовать ли для общения с ним особый «детский» язык, с всякими там «сюси-пусями»? (я на эту тему уже высказался). Допустимо ли добиваться желаемого только через игру, делая постоянные реверансы в его сторону, мол, он ещё так мал, потом поймёт, когда старше станет. Нужно ли прощать все и вся, позволяя себя вести не по-взрослому, а как ему заблагорассудится, захотел тут лечь и покричать – лежи, ори на здоровье, самовыражайся, ты ребёнок, тебе все позволено?
Или вернее воспринимать его равным себе, ну или почти равным. Требовать, ждать от него если не взрослого и ответственного поведения, то уж точно хотя бы минимальной попытки справиться самому. Должны мы потакать его милым шалостям и невинным прихотям, если это нас раздражает? Как быть со скидкой на возраст? До скольких, кстати, лет она действует?
Я думаю, ребёнок такой же, как и мы. И у него нет права сидеть у нас на голове, пиная ногой столик незнакомого дяди в кафе или вести себя так, как будто улица – это детская площадка, а детская площадка – ваша личная. Вернее, такое право есть, но только если вы его делегируете и все окружающие солидарны. «Маленькие взрослые» быстро учатся сопоставлять свои действия и полученный результат. Неважно, отрицательным или положительным он будет. Они сделают выводы. Они прагматичны. С абстрактными темами понимание приходит позже или не приходит вовсе, кому как повезёт. А что касается дилеммы «иметь или не иметь»: игрушки, телефон, планшет, мороженое, шоколад… Тут простая логическая цепочка «цель-усилие-результат» выстраивается очень быстро.
Короче, какой бы подход вы не выбрали, итогом будет то, что ваши дети рано или поздно все равно вырастут и превратятся в вас, то есть во взрослых. Помешать этому можно, конечно, правда ценой искалеченной судьбы ребёнка, да и родительской тоже. Но если не рассматривать крайние варианты, то в сухом остатке остаётся неутешительный вывод: вы сами решаете, как вам нравится и как вам удобнее. Что вы выберете для себя, то вы и выберете для него. А разница в том, на какие жертвы, материальные и нематериальные, вы готовы пойти ради убеждений. Наверное, многие возразят, заметив, что слово «жертвы» неуместно, и для них пристальное внимание к детским интересам – всегда удовольствие и радость. А если есть недовольные этим обстоятельством, то они кладут на них с прибором. Мои дети – как хочу, так и воспитываю. Согласен.

Глава 19. Любой каприз
Картина маслом: улица, тротуар, на нем орущий малыш, а рядом невозмутимые родители. Они ждут, когда у крикуна закончатся силы, иссякнут слезы и он сам успокоится. Выдержать такое дано не каждому. Даже у прохожих зубы сводит и мурашки по коже. У кого-то непроизвольно сжимаются кулаки – вот дать бы этой бестии пару раз по заднице – она быстро рот закроет. Но подобные методы водворения тишины давно уже не актуальны. Поэтому свидетели рёва стараются незаметно побыстрее прошмыгнуть мимо, чтобы избавить свои барабанные перепонки от угрозы взрыва. Родители продолжают, как ни в чем не бывало, попытки успокоить малыша, но он их не слышит и переходит на откровенный визг. Одна лишь сердобольная старушка решает вмешаться в происходящее. Она начинает ласково журить ребёнка и пытается его погладить. И тут новый отчаянный вопль оглашает округу. Под укоризненно-виноватые взгляды родителей крикуна, обомлевшей старушке приходится быстро ретироваться. Наконец, нервы сдают и у папы с мамой. Угроза уйти и оставить одного поначалу действует отрезвляюще на малыша, но, убедившись, что это лишь уловка и никуда без него не денутся, он продолжает крик с новой силой. И откуда она у него только берется? История эта с открытым финалом. Я же хочу перевести разговор в другую плоскость. И поднять вопрос самой допустимости подобного поведения ребёнка со стороны взрослых, неважно, в домашней обстановке или в публичном пространстве. Сторонники консервативных взглядов, которых я бы не стал осуждать огульно, заметили бы по поводу вышеприведённой ситуации примерно так: надо пару раз шлёпнуть крикуна, делов-то, через попу быстрее доходит. Возможно, толк в этом подходе есть. Даже когда взрослый человек впадает в истерическое состояние и перестаёт контролировать свои эмоции, считается полезно дать ему пощёчину, чтобы привести в чувство. Ребёнок тоже зачастую не может совладать с эмоциями. Они захлёстывают его, переполняют. Он не в силах сам остановить свой плач. Но является ли выходом шлёпок по попе? Не запугаем ли мы тем самым ребёнка и не нанесём ли ему ещё худшей психологической травмы, чем та, которая послужила причиной рёва? А если у него тонкая душевная организация и он так самовыражается? И мы, вмешавшись в этот «концерт», зарубим на корню все творческие порывы неординарной личности, лишив человечество будущей Сары Бернар или Джека Николсона?
С другой стороны, чрезмерная терпеливость и потакание подобному поведению чревато полной потерей контроля над ситуацией. Через такие «приступы» крика и слез, истерики на ровном месте, ребёнок приучится добиваться своего. Он начнёт манипулировать родительским вниманием и заботой. Он и так этим занимается постоянно. Но тут в его руках окажется настоящее оружие массового поражения. Существует опасность увлечься истериками и сделать их частью своей жизни, в том числе и во взрослом возрасте. Не сомневаюсь, что многим из нас приходилось сталкиваться с людьми, которые, перешагнув детский и подростковый период, продолжают вести себя аналогичным образом. Разве что на тротуар не садятся, хотя и не без этого.
Так как правильно, что выбрать: дать ребёнку «прокричаться», выпустить наружу свои эмоции, или прекратить это «представление» силой и наказать, чтобы в будущем больше неповадно было? В решении подобной дилеммы, которая, так или иначе, в разной степени остроты встаёт практически перед всеми родителями, на мой взгляд, необходимо руководствоваться здравым смыслом и чувство меры. Если скандал начался из-за пустяка, на ровном месте, а так чаще всего и бывает, поощрять капризы я бы не стал. Шлёпок по мягкому месту – мера крайняя. Прибегать к ней стоит в исключительных случаях. Зачастую одной угрозы приведения ее в действие оказывается достаточно, чтобы снизить накал страстей. Детский плач, я не побоюсь этого слова, и пусть на меня ополчится армия негодующих родителей с бабушками во главе, вещь естественная и нормальная. Для ребёнка это самый простой выход. И самый естественный. Ушибся, поссорился, не справился – появилась обида и сразу вслед за ней навернулись слёзы. Стало жалко себя. Требуется срочно утешение родителей. Становясь старше, мы учимся справляться сами с обуревающими нас эмоциями, но все равно не обойтись без поддержки друзей и близких и, конечно, родителей, если они ещё с нами. Ребёнок поплакал, и ему стало легче. С взрослым также. Просто мы в большинстве своём запрещаем себе это делать, стесняемся. Ну, может это больше к мужчинам относится. Но превратить слёзы, а тем паче истерику в способ достижения цели, получения желаемого результата – вещь неправильная. Это моя точка зрения. Нет, это срабатывает. Причём как у детей, так и у взрослых. Скорее всего, это те самые дети, которые просто выросли и продолжили применять свои приёмчики уже на совершенно сознательном уровне.
Ещё один способ прервать затянувшийся детский «концерт» – вступить в него своей сольной партией, ну или родительским дуэтом. Можно попытаться воздействовать на орущее чадо собственным криком, вдруг получится превзойти его по громкости. Как правило, выходит плохо. Однако иногда этот номер проходит. Чувствуя родительское превосходство в децибелах, крикун постепенно стихает. Но данная метода имеет и обратную сторону медали. Не всем так уж нравится кричать, тем более на своего киндера. Некоторые, например, от этого испытывают стресс и сами потом оказываются не то что не в своей тарелке, а с приступом стенокардии, трясущимися руками и подкашивающимися ногами на ближайшей скамейке. Про реакцию окружающих и говорить не стоит. Ваша репутация будет сильно подмочена. И виной всему это невинное существо, которое накричавшись, наконец, успокоилось и теперь являет воочию свой ангельский лик. Повышение голоса на ребёнка вещь плохая, признаю. Но иногда неизбежная. Да, это признак вашей слабости или нежелания посвятить достаточно времени решению проблемы. Но если найдётся хоть кто-то, кто хотя бы раз не устоял перед этим искушением, пусть первый бросит в меня камень. Сознайтесь, праведники, и согласитесь – окрик помогает если не переломить ситуацию, то быстро зафиксировать ее. Трубный родительский глас однозначно оказывает благотворное влияние на расшалившихся и потерявших всякий самоконтроль детей. Они чувствуют, что подошли к опасной грани, за которой может последовать что угодно, в том числе наказание. И если не практиковать этот «непедагогический» приём слишком часто, эффект, пусть и незначительный, будет. Только не подумайте, что я призываю вас каждый день кричать на своего ребёнка. Боже упаси. Но как следует «рявкнуть» на него для приличия, стоит. Шучу.
P.S.
Рассуждая о причинах рёва, я упомянул детские капризы. С ними, если задуматься, все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Не всякая прихоть – каприз и не всякий каприз – прихоть. Иногда так можно не различить особенности, природные склонности ребёнка, если каждое его желание пропускать мимо ушей и списывать на капризы. А некоторые капризы потом становятся привычками и даже добавляют шарм их взрослым обладателям. Правда, другие дурные привычки раздражают не меньше, чем соблазняют приятные. Каприз – это внутренний неосознанный порыв, увлечение мимолётное и доставляющее редкостное удовольствие. Редкостное, в смысле редко достижимое. Позволять иногда себе и другим капризы нужно и полезно. Это раскрепощает, приподнимает над действительностью, какой бы степени удобства и комфорта она ни была. Но часто практиковать капризы тоже не стоит. Во-первых, от них устают близкие, терпение которых не безгранично, а во-вторых, избаловав себя прихотями, вы нивелируете их ценность и можете потерять способность получать от них удовлетворение. Так что капризничайте лучше меньше, да лучше.


