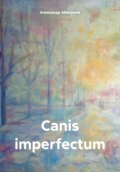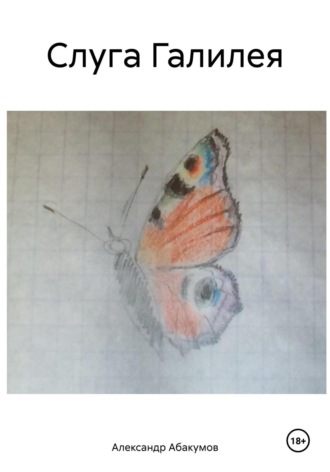
Александр Николаевич Абакумов
Слуга Галилея
История испуга
Оказалось, что не прошло и полугода по моём отъезде, как вокруг дома Томазо Мартинелли начали сгущаться тучи. В природе это явление нечасто можно видеть в наших краях, но уж если такое происходит, то жди беды. Налетающие вихри ломают ветви деревьев в садах, побивают посевы, а бывает, что сносят у домов крыши. Потоки мутной воды проносятся по улицам, затопляя подвалы и потрясая всех своей мощью. Примерно так же обстояло дело в семье астронома, с той только разницей, что напасти эти вид имели поначалу незаметный. Результат же был похожий – неотвратимый и разрушительный. Насколько я мог заметить за недолгое время моей службы, Мартинелли очень любил свой дом, который он обустроил как ему хотелось, и красавицу жену, и детей. Небеса, куда он смотрел с таким интересом и восторгом, поначалу отвечали ему взаимностью. Мир царил под крышей его жилища. Из окон часто раздавался весёлый смех, и оттого даже скромная еда казалась нам всем вкуснее. Когда всё семейство направлялось в воскресенье в церковь, то соседи, направлявшиеся туда же, не могли не любоваться ими и шумно приветствовали такую красивую пару. Теперь же тётя Серафина, которая после нашей с ней встречи наконец-то отрыдала в голос свою радость, дала мне понять, отчего синьор Мартинелли вдруг так сильно изменился. Замечено ей было, что сначала иногда, а потом всё чаще, подолгу беседовал он возле церкви с каким-то неизвестным человеком. Говорили, что приехал он в наш город совсем недавно, одет был как падре и в храме Божьем его видели не только во время мессы. Ещё молодой, лет примерно тридцати пяти, на людях улыбчивый, к беседам он, очевидно, располагал. Видела не однажды Серафина, что спокойный разговор этих двух мужчин часто переходил в спор, где астроном горячился, а неизвестный падре отвечал обстоятельно, перебирая чётки и покачивая головой в такт своей неторопливой речи. Ничего более моя добрая тётушка к этому рассказу не могла добавить, разве что подкладывала мне на тарелку горячие лепёшки с изюмом. Личность незнакомца меня заинтересовала настолько, что я рискнул спросить об этом у Джованны. Бойкая девушка, конечно, была в курсе всех домашних дел и подробно мне о них рассказала:
– Да, видела я такого в доме, и не раз. Приходил он обычно ближе к вечеру, весь строгий такой, в черном… Провожал его до наших дверей ещё один, видом попроще, но тот всегда ждал на улице. А этот, ну, который к хозяину вхож, довольно симпатичный, но присмотрелась я к нему, и тотчас стало мне не по себе. Взгляд у него порой становился таким пристальным, немигающим… Как глянет в упор, так делается мне нехорошо внизу живота! А потом снова смотрит ласково. Интересно, как хозяин с ним ладит? Я бы к такому на исповедь не пошла.
– И что, подолгу они говорили?
– Откуда мне знать, у меня на кухне дел полно. Только замечала я, что хозяин никогда его не провожал, и Лука тоже. Всегда он сам шёл к выходу и быстро так, словно здесь всё знает. Никто из наших не хотел попадаться ему на глаза. Прятались. Вот так-то…
Всё это вспомнилось мне, когда сидя на скамейке рядом с астрономом, я безуспешно ожидал от него хоть каких-нибудь слов. Чувствовалось, что он и сам очень тяготится молчанием – хмурится, вздыхает. Наконец, собравшись с духом, Мартинелли повернулся ко мне лицом. Голос его был с хрипотцой, словно давно он ни с кем не разговаривал:
– Что, Козимо, как тебе живётся на свете? Изменился ты, совсем уже взрослый. Не жалеешь, что уехал с Галилеем? А мы вот тут…– он поджал тонкие губы, отчего его знаменитый нос стал ещё более похож на клюв огромной птицы. Не хотелось, чтобы он снова надолго замолчал, и слова у меня нашлись быстро:
– Синьор, я очень рад снова здесь быть, но если честно, не узнаю ни Вас, ни дом этот. Здесь так тихо и печально, словно вчера были похороны.
Я действительно был впечатлён переменами в этом человеке. Куда подевался его интерес ко всему новому, эта лёгкость походки и живая речь? Может быть болезнь сына так его ударила? Смотреть на бедного Доменико было и в самом деле невыносимо, и если соседи и знакомые могли на время отступить от мыслей о несчастном парне, то куда деваться отцу и матери? Хорошо ещё, что Доменико не был буйным – похоже, бес, его мучивший, был ленив. Во всяком случае, за эти несколько дней моего пребывания в доме Мартинелли не слышал я ни криков, ни возни, ни плача… И, пожалуй, напрасно я упомянул о похоронах – бес тот, хоть и ленился, но за язык меня всё-таки дёрнул. Ну, да что уж теперь… Астроном же ухватился за это моё неосторожное слово:
– Смердит, говоришь? А разве ты не знаешь, что так всегда бывает, когда умирает человек? Но это ещё полбеды. Страшнее, если человек при этом выглядит как живой – ест, пьёт, дышит – только настоящего в нём ничего не осталось.
Он искоса посмотрел на меня, неуверенный, что его понимают. Я же, поначалу, с горечью с ним согласился, думая, что говорит он о сыне, даже слёзы сдавили горло. Но пришлось мне их проглотить, потому, что последующие слова Томазо Мартинелли заставили меня содрогнуться:
– Ты подумал сейчас о моём бедном мальчике? Ошибаешься, Козимо. Боюсь, что он сейчас более живой, чем я. Да-да, не удивляйся, по воле Господа моя прежняя жизнь отлетела, и теперь я, как видишь, пустой, словно медный котёл на нашей кухне после обеда. Никому не нужен оказался астроном Мартинелли, лекции его в университете вдруг оказались отменены, а кредиторы, все как один, неожиданно стали требовать возврата долгов… Мне кажется, к этому руку приложил мой новый знакомый, отец Джакомо, ты его не знаешь… Но, при всём при том, он же, каким-то образом не даёт мне пропасть. Очень странная личность – правой рукой отнимает, левой одаривает. Мне приходится его слушать, говорит он очень убедительно, иногда даже кажется, что он разбирается в астрономии, хотя это не так…
Я вздрогнул, услышав это имя, но собрался и отогнал страх, подумав лишь о том, какие странные бывают совпадения. Мартинелли же продолжал:
– Жаль только, что он не согласен категорически с моими мыслями об устройстве мира – признаёт их только как забавное предположение, как первые и не всегда верные шаги в науке. Утверждает, что и книга Коперника, и мои наблюдения – лишь частные, не прошедшие проверку опытом, обходные пути к абсолюту, который давно известен, и в Писании отражён, и в трудах древних. И поэтому, дабы не смущать людей, необходимо забыть о Копернике, как о наивном и запутавшемся человеке. О, как мне трудно с этим соглашаться! Но, Писание… – это, конечно, довод, с этим не поспоришь…
Он перевёл взгляд на телескоп, спящий под белым саваном, и продолжил:
– Письмо Галилея я прочитал. Козимо, скажи ему, пусть не ждёт меня в Риме. Знаю, поведёт он меня там на площадь Цветов, а тамошние дома ещё хранят на своих стенах копоть костра, на котором сгорел Бруно. И в рыночном шуме я буду слышать его крики… Ты думаешь, я не догадываюсь кто такой этот Джакомо? Доказывать истину в спорах именно с такими людьми и зовёт меня Галилей, зовёт во имя науки, …но, в итоге, не на костёр ли? И книгу, о которой он меня просит, я не отдам, считай, что её уже нет. Ну представь, повезёшь ты её в Рим, найдут её у тебя по дороге, спросят с пристрастием: «Откуда?» Выяснится, что Мартинелли дал… А ведь было указано залить чёрным неправильные строки, указано строго… И пропал тогда Мартинелли, ослушался мудрых увещеваний, стало быть – он отступник, и место ему если не в тюрьме, то в ссылке. А семья его? А несчастный Доменико, кто его утешит? Кто их всех накормит, согреет и успокоит? А маленькие дочери, которые виснут на мне и смеются, и целуют в глаза, – какое у них будущее? Можешь не отвечать. Ступай…
Беспокойная мысль посетила меня посреди ночи. Если Мартинелли перестал быть собой, если Джакомо, или как там его зовут, его переговорил, запутал, испугал и почти что пустил по миру, значит нельзя более рассчитывать на астронома, а нужно хотя бы спасти книгу, чтобы там, в Риме, Галилей не остался без оружия. Аккуратно высвободив свою руку, на которой видела сны моя милая Джованна, я оделся и со свечой в руке стал пробираться на чердак. Ничего там не изменилось за эти годы, но идти в кромешной тьме приходилось медленно и несколько раз голова моя пребольно ударялась о что-то. Раскидав кучу мусора, увидел я знакомый сундук. Никаких прежних мальчишеских иллюзий не возникло у меня в голове, сокровища и старинные одежды уже не занимали моё воображение – я искал богатство иного рода. Сундук был заперт, и это укрепило меня в мысли, что книга цела и ключ, наверное, должен находиться на прежнем месте. Уже через минуту я смело запустил руку во чрево сундука и… ничего там не нашёл. Пусто.
Опередил меня Томазо Мартинелли. Горькое чувство поражения, злость, бессилие…что ещё наполняло моё сердце во мраке чердака при тусклом свете догорающей свечи? Означало ли это, что вернусь я в Рим и без знаменитой книги, и без её хозяина? И что сделалось с этим томом, сгорел ли он в печи или Мартинелли успел его перепрятать? Хорошенько рассудив, решил я, что справедливо, скорее, первое, ибо трусоват стал астроном… Но кто я такой чтобы его осуждать? Сам-то я разве не хотел когда-то бежать без оглядки от непонятных галилеевых слов, от стеклянных глаз телескопов и лунных гор? И, кстати, что ещё опасного могло сгореть в очаге нашей кухни вместе с книгой? Письма? Пожалуй, да. Если это так, то значит Мартинелли и на самом деле, как он о себе сказал, пуст… Ничего не оставил он от прошлой жизни, такой интересной и горячей как кровь. Да…, трудное решение в трудное время… Я забросал мусором сундук, ключ, завёрнутый в тряпку, вознёсся на своё место под крышу, и очень скоро тёплые губы Джованны заставили меня позабыть и астронома, и великую книгу, и все тайны мироздания.
Я ушёл в Рим с купеческим обозом через день поутру. Накануне я зашёл попрощаться к тёте, которая безутешно плакала, но не забывала при этом давать советы на все случаи жизни. Незаметно для Клаудио я передал ей деньги, которые ещё оставались у меня от Галилея, оставив себе самую малость. Долго стояла она в дверях нашего дома, утирая ветхим передником слёзы, махала рукой, благословляя меня и призывая мне в помощь всех святых. Небеса, куда вознеслась её молитва, неожиданно быстро ответили порывом тёплого ветра, закружившего пыль перед её порогом, и Серафина, дивясь этому, ушла в свой дом. Ушла надолго из моей жизни. Только через много лет я снова услышал её голос…
Не укради?
– Я уж думал, что ты не вернёшься! – такими словами встретил меня Галилей на пороге дома богатого торговца Марио Тибери, где он теперь проживал. Вид у него был усталый, как будто это он, а не я ездил так далеко. Стоило поспешить рассказать ему о поездке, но было такое впечатление, что и сам он уже догадывается о результате. Мне это не очень понравилось, как и его лёгкая неопрятность – борода не чёсана, на рукаве капли воска от свечи. Если и было раньше у него какое-то подобие осанки – редкость для пожилого и тучного человека – то теперь я увидел поникшие плечи, словно лежал на них некий груз. Всё более выпирающий живот, наверное, мешал ему в работе… Прошло всего три недели – неужели возможны такие перемены в человеке?
Усадив меня за стол в своей довольно большой комнате и придвинув ко мне тарелку с какой-то едой, он уселся напротив и внимательным взглядом осмотрел меня всего, как будто новости, которых он так ждал, были надеты на меня поверх одежды. Рассказ мой был длинен, но ни разу астроном меня не перебил. Наконец, я смог перевести дыхание. Галилей же молчал довольно долго, зажмурив глаза и ощупывая своё лицо как слепой. Голос его прозвучал в тишине этой комнаты как-то одиноко, так выглядит первая буква на пустом листе бумаги:
– Не переживай, мой мальчик, нет ничего удивительного в том, что происходит. Мартинелли не мог сделать более того, что получилось. Пусть не думает, что предаёт он своё дело, а тем более меня. У него был острый, изобретательный ум, ему нравилось свободомыслие, он был трудолюбив, хотя и тщеславен… Но ты увидел, как его изуродовал страх. Слава Богу, читая лекции, успел он рассказать о многом своим студентам – короче, разбросал он эти семена, что-то должно взойти… А добраться до него люди типа Джакомо (я правильно назвал его имя?) должны были, по моему разумению, гораздо раньше. Хотя, не имеет значения как зовут этого человека, имя им, как сказано в Писании – легион… А то, что испугался Томазо…, знаешь, сколько людей ещё испугается!? Очень, очень много. И я в том числе…
Несколько дней спустя, когда жизнь моя понемногу пошла прежним неторопливым путём, случилось мне наблюдать Галилея за написанием какого-то письма. Не отрываясь от дела, он, близоруко щурясь и склоняясь над желтоватым листом бумаги, произнёс со смехом, обращаясь неизвестно к кому:
– Каждое такое письмо будет, наверное, славно гореть. Они смогут сэкономить на дровах…
Шутка его мне не понравилась, но очень впечатлила, и представился он мне, такой беззащитный, среди этих великолепных знатоков священных книг, этих добросердечных блюстителей нравов, собравшихся вместе чтобы его затравить, но сначала унизить, поставив на колени и до смерти напугав… И вдруг поймал я себя на необычайно смелой мысли:
– А ведь действительно, письма эти могут послужить уликой, если старика потащат в суд. Но почему он мне об этом ничего не говорит, в подробности не посвящает? Неужели он мне не верит? А если и так, то что? Бережёт меня? Или боится, что я сболтну лишнее? Как бы то ни было, от судейских вопросов ему никак не отвертеться, а ведь я мог бы, наверное, что-нибудь придумать для облегчения его участи. Да…, послания эти действительно могут ему сильно навредить… Ну, что же, тётя Серафина, не сердись, придётся тебе сильно потрудиться чтобы отмолить грех, который твой племянник вскоре себе на душу возьмёт. У тебя получится, я знаю, голос твой слышат там, наверху. Пойми, мне нужно обязательно взглянуть на эти письма, и понять, какие из них опасны. И, Боже сохрани, – не украсть, а просто спрятать их понадёжнее. А может быть это и не грех вовсе, а наоборот – спасение и старика, и тех, кто ему писал, ибо прочитав опасные строки, придут к их авторам, и у них обязательно найдут галилеевы послания… Представляю, как будут потрясать ими в суде перед лицом старого астронома… Что ж, по-моему, я рассудил здраво. Вот только провернуть это непростое дело нужно быстрее, ведь никто не знает, когда несчастного старца начнут вопрошать люди, ничего не понимающие в его деле.
Весь следующий день я был рядом с Галилеем, старался чаще попадаться ему на глаза и всячески суетился, чем сильно его донимал. Не отрывая глаз от какой-то книги, он, наконец, бросил мне с раздражением:
– Ну, что ты скачешь сегодня передо мной с самого утра? Заняться, что ли, нечем? В коричневом ларе неразобранных бумаг целый ворох, на некоторые письма я даже ответить не успел. Счета, расписки… Поди и разбери всё это! А меня оставь в покое…