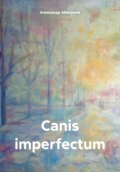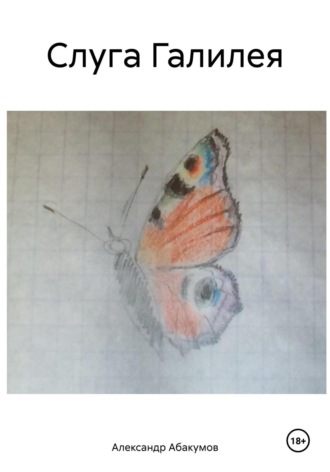
Александр Николаевич Абакумов
Слуга Галилея
Он перевёл дыхание и впервые за эти минуты на меня посмотрел.
– Что, опять ты испугался, малыш? Да никакой ты уже не малыш, много знаешь, своими глазами видел лунные горы… Мне и синьор Галилей говорит, что таких слуг ещё поискать. Он даже просил уступить тебя ему в услужение, если, конечно, ты согласишься. Вместе с ним ты увидишь много городов и интересных людей, в Риме Его Святейшество Папа, возможно, благословит и тебя. Знаменитые университеты услышат звук твоих шагов. Знаю, ты будешь очень скучать по своей родне, да и я к тебе привязался. Решай сам. Но самое главное, что тебе придётся для себя решить – насколько ты готов сомневаться. Если готов, то, я уверен, ты пойдёшь далеко. Если же нет, то тебя расхожими сказками заморочит первый же встреченный тобой говорун и заставит в них поверить. И о сундуке с книгой можно будет забыть, и телескопу будет грош цена, и на долгие годы останутся на свете лишь чёрные братья… Ну, ступай, устал я, сломалось во мне сегодня что-то. Отдыхай и думай, времени осталось немного. Галилей покидает нас через пару дней.
Мне же отдыхать было никак нельзя, и я поспешил к своей тётке за советом, размышляя над словами Мартинелли, едва ли не вслух:
– Через пару дней… Как быстро порой меняется жизнь. Вот, например, Клаудио всю свою жизнь провёл при нашей церкви, и достиг всего лишь того, что немного поднаторел в латыни. Нет, у него в жизни никаких перемен и не будет. Мне же, как видно, выпадает совсем другое. И, наверное, не такое уж простое на вид это маленькое распятие, подарок моей тётки, раз работает оно и незримо, и мощно. И тут я остановился посреди улицы, поражённый своей догадкой. Конечно, Серафина отдала мне эту драгоценность, зная, что последний дар её сестры будет вести по жизни неопытного и постоянно искушаемого Козимо. О, дорогая матушка, спасибо тебе! Я не часто о тебе думал, ведь ты умерла так рано, и я не помню твоей ласки. Теперь же, когда пришло такое понимание, я всем сердцем чувствую твоё тепло и заботу. Но, что это у меня на щеке? Это слёзы! И счастливая улыбка на моём лице! А где же брат Джакомо? Отстал, пропал куда-то…
Слуга Галилея
Никогда ещё я не покидал пределов нашего города. Его старые стены давно уже не давали никакой защиты от вражеских нашествий, ворот как таковых не было вовсе, и, видимо, поэтому чума посещала нас свободно и неоднократно. Не было ничего страшнее, чем слышать, как в тишине ночи скрипит проклятая телега, собирая на улицах мёртвые тела… Не знаю, почему посетил меня сейчас этот кошмар из детства. Только рождественские восторги с их наивными подарками, смехом и звоном колоколов, только таинственные пасхальные радости помогали забыть на время этот жуткий скрип и смрад. С тех пор я стал бояться темноты. Пишу это потому, что по странному совпадению, именно ночью открываются великие тайны, вспыхивают звёзды и посылается нам для испытаний страх перед бездной. Так говорит синьор Галилей, у которого я в услужении уже два года. Всё это время я ничего не знаю о моей бедной тётушке Серафине, жива ли, весела ли всё так же? На Клаудио, уже тогда частенько попивавшего, надежды особой и раньше не было, но его науку я вспоминаю с благодарностью и желаю ему всяких радостей. Дом Мартинелли я покинул как-то вдруг, не успев в нём толком прижиться, но и его поминаю добром – и великана Луку, и обеды за общим столом на кухне, и хорошенькую Джованну… И даже одноглазого, деревянного паука с которым успел подружиться, этого немого мудреца, вечно смотрящего в небо. Томазо Мартинелли обнял меня на прощанье, сунув в мою руку несколько монет. Я принял их неуверенно, но астроном улыбнулся и сказал, что всё понимает, и что он обязательно позаботится о моей Серафине, если вдруг будет в том нужда. Донна Кьяра, благосклонно смотрела на наши проводы из окна второго этажа, играя локоном своих прекрасных, чёрных волос. Стоящий рядом с ней, всегда печальный Доменико был равнодушен к происходящему во дворе, а его сёстры – хохотушки Анна и Джулия шумно радовались всему, что видели. Вот примерно такую картину можно было наблюдать прохладным утром в доме на улице Розы в начале лета позапрошлого года.
Моя жизнь с этого момента стала скорее кочевая, чем домашняя. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Галилея принимали в домах и епископов, и знати, в университете Болоньи он читал лекции, а в Венеции самому дожу показывал Луну в телескоп. Но всё это время не покидало меня чувство, что астроном находится в опасности, и я вместе с ним. В другое время я бы бежал без оглядки, спасался и каялся, но ведь я их видел, эти далёкие синеватые горы, и ничего с этим уже нельзя было сотворить. Выбор был сделан в пользу именно такой жизни. Да я бы и не хотел прозябать, как Клаудио, изо дня в день делая одно и то же, то прибираясь в церкви, то бранясь и по-простому, и на латыни с торговками на рынке. В доме Мартинелли я отхлебнул, что называется, вина драгоценного, и по силе своей действо это было похоже на причастие. После такого перерождения возвращаться к себе прежнему желанья не было. Не из-за глупых амбиций, нет, а из-за того, что мир Божий оказался так сложен и прекрасен. Мой новый хозяин был большим спорщиком, в смелости ему было нельзя отказать, и я не раз был свидетелем, как в жарких научных битвах низвергались с небес на землю его собеседники. Мне много раз приходилось слышать, как в пылу этих бурь слетали с его уст слова, обидные для клириков, и видел я, как переглядывались при этом некоторые из его слушателей. Студенты на лекциях скрипели перьями, едва поспевая записывать его слова, а меня мучил вопрос – не донос ли пишет один из них? И, что называется, накаркал.
После приёма у Папы, Галилей не показался мне воодушевлённым. Его Святейшество с интересом отнёсся к астрономическим опытам, но отечески предостерёг от критики учения церкви об устройстве мира. Впечатлило астронома и то, что после тёплой беседы и папского благословения, провожающие его к выходу два кардинала тихо говорили о чём-то за его спиной, упоминая имя Бруно.
– Это какого Бруно? Того, которого?…
– Да, сынок, того самого. И понятно, зачем они это делали. Хотели и меня подпалить немного, разумеется, для моего же блага. Я был знаком с Джордано, кое в чём с ним соглашался, но порой он говорил вещи немыслимые, от которых голова шла кругом. Только сейчас, после многих лет наблюдений, я начинаю склоняться к мысли, что он был прав. Все эти бесконечные пространства, множественность миров… Сейчас я думаю, что всё это вполне возможно, что не мешает наука религии, а только славит Создателя, и вера наша святая уж никак не противоречит тому, что я вижу в свой телескоп. Сегодня, если бы меня спросили, я бы заступился за Бруно в суде.
– И не испугались бы? Ведь инквизиция не шутит, Вам ли это не знать? А за Вас, учитель, есть кому заступиться?
Он посмотрел на меня со странной улыбкой:
– Вот ты и заступишься!
«Заступишься…» Я представил себя в собрании людей перед которыми всегда трепетал – в красных мантиях кардиналы, важные епископы, благословляющие и, как бы, парящие над толпой, всякого рода знатоки Писания в строгих своих облачениях, а также припомнились мне, почему-то, странные личности с надвинутыми на лицо капюшонами и длинными, неспокойными пальцами… Всех их, облечённых властью, данной им и Богом, и герцогом, я вдруг воочию увидел перед собой. И почудилось мне, будто я – ребёнок, стою голенький в полумраке холодной комнаты, где по стенам развешаны непонятного назначения острые, тускло блестящие предметы, и во всём этом жутком пространстве есть только один затухающий огонёк – моё маленькое, беззащитное тельце. Босые ножки на каменном полу уже перестали его ощущать, искажается моё лицо в предчувствии беды и оживает где-то в груди, и трепещет в ней мерзкая, холодная жаба. Чувствую, захлестнут меня эти темнота и холод, и нет у меня ни единого слова поперёк, уже задыхаюсь, не за что ухватиться, разве, что за протянутую мне руку с бледными, тонкими пальцами… И входит в двери, на меня надвигаясь, огромная, как гора, фигура в серых одеждах, и, указывает на меня, дрожащего, этой самой рукой, и громко говорит кому-то голосом брата Джакомо:
– Если он будет плакать или обманывать вас – вы знаете, что с ним нужно сделать!…
– Козимо! Козимо…– видимо, уже давно, испугавшись моего лица, Галилей тряс меня за плечи – очнись же! Ты где? Вот наказание! Козимо!
Я постепенно приходил в себя и, наконец, посмотрел на астронома осмысленно.
– Синьор… Я не справлюсь… Совершенно точно, это не для меня…
– Бог с тобой, сынок, ты меня не понял… Надо же, и сам испугался, и меня напугал! Но я тоже виноват, нельзя было с тобой так сразу. Слушаешь меня? Поручение к тебе будет совсем иного рода. Ты ведь можешь отвезти письмо синьору Томазо Мартинелли? Заодно увидишь свою тётушку, ведь два года прошло… Конечно, навестишь и её, и всех прочих! Но прежде нужно будет посетить Томазо и отдать ему моё послание. На первый взгляд оно, как говорится, ни о чём. Так, приглашение в гости…То, о чём я не решился написать, ты передашь ему в беседе, он наверняка захочет тебя о многом расспросить. Козимо, скажу тебе честно, зря я уехал из Венеции, в том городе мне хорошо и спокойно работалось, и учёные, такие как я, там недосягаемы для здешних судей. А в Риме их соглядатаи окружают меня, обкладывают как зверя, записывают каждое слово… И, – ты разве не знаешь? – они запретили мою книгу!
Галилей быстро ходил по комнате, что было для него, человека довольно грузного и к ходьбе непривычного, совсем уж странно. Взволнованный, подходил он к окну, стоял, опершись руками на узкий проём, ловил ртом воздух… Резко повернувшись, он продолжил:
– А ведь я работал над ней почти тридцать лет! Да, мальчик мой, тридцать лет непрерывного прозрения! Ты не представляешь, какое это божественное наслаждение – становиться зрячим! Но с ними говорить о науке не имеет смысла, не в небеса они смотрят, а в свои бумаги; почти все малограмотны и хорошо знают, помимо Евангелия, лишь правила дознания… Я хочу попросить Мартинелли приехать сюда, в Рим, чтобы вместе с ним доказывать нашу правоту везде, куда нас пригласят. Я уже стар и временами становлюсь косноязычен. Что? Похоже, ты не согласен? Пойми, он…, он моложе, и, стало быть, может сверкнуть ярче! Что ещё для меня важно – обязательно скажи ему, чтобы привёз с собой книгу Коперника, да, ту самую, которая без исправлений, я знаю, он её где-то прячет. Так что, собирайся, дружок. Пристанешь к каким-нибудь торговцам, я им заплачу, с ними завтра же и отправишься.
Дорога до родного города была утомительной, но не очень долгой. Несколько дней мы провели в пути, останавливаясь под стенами неизвестных городков, из-за которых доносился до нас по утрам то одинокий, то дружный звон колоколов. Галилей, похоже, не поскупился – все, кто были рядом со мной в этом небольшом обозе негоциантов, трогательно меня опекали. И вот, наконец, ступил я на узкие улочки родного города. Странное, непонятное чувство испытал я при этом. Знакомые дома были очень похожи на прежние, но стали как будто немного ниже. За каждым поворотом ожидаемо встречали меня всё те же улицы, но как будто не такие широкие, как раньше. Я узнавал подросших мальчишек, бегущих куда-то по своим делам, и чувствовал, что ещё пара лет, и перестанут они мчаться стремглав, а перейдут на шаг, чтобы чаще обращать внимание на соседских девушек… Колокол собора, приветствуя меня, вдруг подал свой знакомый голос, и я понял, что только этот звук и остался здесь неизменным. Где-то недалеко отсюда был мой дом со знакомым деревом у стены, каким-то чудом оживающим каждую весну среди желтовато-серого травертина. И совсем уж близко проходила где-то с корзиной на рынок тётя Серафина, чему-то улыбаясь и подбирая подол серой юбки, чтобы побыстрее идти… Улыбнулся и я такой картине…
Новостью стало, что на улице Розы рухнул старый дом, куда я в прежние времена бегал в лавку. Сосед, узнавший меня, рассказал, что годом раньше затряслась вдруг земля и очень многие постройки в городе пошли трещинами. К счастью, почти все дома устояли, кроме нескольких стариков; говорили, что вот и этот, даже спустя неделю после землетрясения, на глазах оседал, всё новые и новые глубокие морщины появлялись на его старом теле. Однажды, перед самым рассветом раздался треск, похожий на крик, и клубы поднявшейся пыли были похожи на последний вздох… Именно так поэтично описывала мне эти ужасы Джованна, жарко обнимавшая меня в темноте всё той же каморки в доме Томазо Мартинелли, куда меня поселили по старой памяти. Поначалу я очень удивился тому, что комнатка моя была необитаема. Едва переступив порог, я не нашёл следов присутствия нового слуги, никто здесь давно уже не бывал, судя по слою пыли на сундуке и лавке… Значило ли это, что Мартинелли обходился с тех пор без помощника? Весь дом как-то погрустнел. Донна Кьяра проходила мимо прекрасной, но странной и одинокой тенью. О Доменико мне почему-то ничего не стали рассказывать, молчали и отводили глаза. Джованна, правда, шепнула мне, что болен он на голову и иногда по ночам, если встать под его окном, можно слышать его голос, спокойный и негромкий, будто он беседует с кем-то, находясь взаперти. Радовали всех только Джулия и Анна с их тряпичными куклами, по малолетству своему принимавшие мир со светлой улыбкой.
Синьор Мартинелли, узнав о моём приезде, меня к себе тотчас не позвал, а лишь принял через толстяка Луку письмо от Галилея, и велено мне было ожидать ответа. Через день, почему-то молча, Лука проводил меня знакомым путём к своему хозяину. Перешагнув через порог, я поразился тому, какой странный вид имела комната астронома. Ожидал я увидеть знакомый радостный хаос, это разбросанное по полу знанье, усталое от трудов лицо Мартинелли и оплывшие свечи… Но, нет, ничего такого не было и в помине. Никаких следов ночной работы, телескоп у окна укрыт белым холстом, библиотека в идеальном порядке, все книги стоят на своих местах. Хотя, нет… Та самая, злосчастная книга Коперника с вымаранным текстом, переплёт которой был хорошо узнаваем, переместилась на полку выше, так, что достать её теперь стало труднее. Почему вдруг так? И где же хозяин? Его знаменитое кресло, в котором было так удобно читать и думать, пустовало. Мартинелли скромно сидел в дальнем углу комнаты на краю скамьи, которой здесь раньше не было, в углу том самом, где когда-то сидел и я, наблюдая за работой двух астрономов. Сейчас никто бы не заметил радости на его лице. Напротив, Томазо Мартинелли имел вид человека напуганного. Я уже открыл рот, чтобы поприветствовать астронома, но, заметив, как сдвинулись его брови и исказилось лицо, осёкся. Поскрипывала ставня окна, ветерок трогал белую тряпку на телескопе. И хотя Лука давно ушёл, разговор всё не начинался. Глазами показав мне на противоположный край скамейки, он ещё сильнее нахмурился, и видно было, как трудно даются ему слова. Я же их терпеливо ждал, готовясь обсуждать галилееву просьбу.