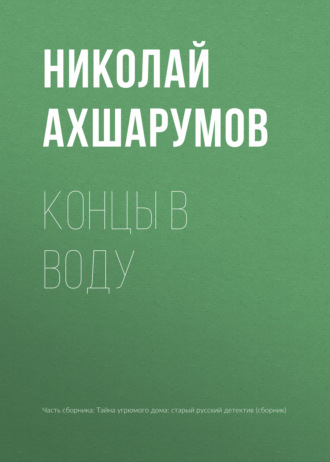
Николай Ахшарумов
Концы в воду
– В чем?
– Вы были тогда откровеннее.
– Ну, едва ли.
– Однако. Тогда вы мне храбро сказали все, что думали, а теперь трусите.
– О! Это вздор!
– Что вздор!
– То, что я вам хотела сказать.
– Эх, Юлия Николаевна! Знаете, иной вздор дороже серьезных вещей.
– Да, кстати, – сказала она с таким видом, как будто вдруг что-то вспомнила, – а ведь я после жалела.
– О чем?
– Угадайте.
– Попробую, но не берусь попасть прямо в цель, а так, около. Вы жалели о чем-нибудь, чего нельзя было воротить?
– Да, около.
– Ну, а теперь?
– Что теперь?
– Теперь разве нельзя воротить?
– Нет, – отвечала она с грустной усмешкой.
– Почему же нет?
– Так, я стала теперь гораздо требовательнее; стала совсем другая.
– Вот видите, я вам правду сказал, что вы испортились.
– Ах, нет! Но я требую теперь совершенно другого.
– Большего?
– Несравненно большего!
– Что вы имеете?
– Нет. Знаете, это избитая истина, мы все недовольны тем, что имеем, и все ищем лучшего.
Она шалила, вертя перед моими глазами обольстительную приманку, а я ловил ее, как котенок ловит перо на нитке. Это была игра и довольно глупая…
Я ушел от нее в чаду и долго не мог дать себе отчет, что это такое было. Я чувствовал только, что дело вдруг приняло очень крутой оборот и стало серьезно. Я чуть не сказал ей в глаза, что она убийца, она едва не призналась. По крайней мере что-то шептало мне, что мы оба были недалеко от этого. Не струсь я в решительную минуту, потребуй прямо ее признания, легко может быть, что правда сорвалась бы у нее с языка.
Всю ночь я думал о том, что сделаю, если, как это весьма вероятно, я наконец услышу от нее признание? Завязать дело нетрудно, и я ничем, не рискую при этом. Только вот что: теперь, мне кажется, это уже немножко поздно. Тут пахнет уже предательством! Если я ее подведу под суд, то она погибла без всякой надежды на искупление, погибла кругом, как женщина и как мать, а кто в барышах?.. Кому это нужно? Мне, что ли? Но, по моим понятиям, справедливость не будет нисколько умиротворена тем, что Юлия Николаевна сгниет на каторге. Конечно, общество вправе себя защищать как может и как умеет; ну и пусть защищается, я ему не мешаю. Но мне-то какое до этого дело? Разве я представитель общества для Юлии Николаевны? Я не судебный следователь, не сыщик и не палач. Я для нее просто Черезов, и как Черезов буду просто убийца, если я это сделаю.
Значит, не сделаю. А если не сделаю, то на что мне ее признание и чего я от нее хочу? Выкупа, что ли?.. Увы! Кажется, дело идет к тому, и, кажется, я уже получил задаток. К чему ж я пугаю ее, прикидываясь неумолимым и неподкупным? Вместо того, чтоб хвастать и лгать как лавочник, который лезет из кожи, чтобы ему накинули грош на его гнилой товар, не проще ли было бы сказать ей прямо в глаза, что она убийца, но может быть спокойна; что я не выдам ее, если она заплатит мне то, что я требую? Да, это было бы коротко и просто, и было бы прямодушнее, даже, пожалуй, честнее, чем, наигравшись с нею как кошка с мышью, лизать потом ее руки, те руки, которые уложили в гроб Олю! Но нет! Нужно, вот видите ли, и черту кочергу, и Богу свечку! Нужно наесться грязи так, чтобы губы себе не выпачкать и чтобы это с лица вышло даже красиво, а для этого надо роман себе сочинить. Надо уверить себя, что любовь смягчила сердце убийцы, и что она раскаялась, и что мне жалко ее, просто по-человечески жалко.
Мысли эти терзали меня всю ночь, и поутру я проснулся с ними, в настроении, в каком только может чувствовать себя человек, не совсем еще потерявший совесть.
VI
Свидание это было странное. Я уронила огонь на платье и чуть не сгорела в буквальном смысле; он пережег себе руки, но получил зато поцелуй. И я чуть не призналась ему в любви; и он сказал мне, что все знает, но не намерен мстить. И мы едва не сошлись с ним на мировую… а между тем ничего, собственно, не было сказано, и все это промелькнуло передо мною, как клад во сне, после которого просыпаешься поутру с пустыми руками, дивясь и жалея.
Я начала с того, что храбро напомнила ему нашу встречу, и при этом призналась, что струсила, когда узнала его у Горбичевых. «Я, – говорю, – не знала, какого вы мнения обо мне, и как вы со мной обойдетесь, но вы вели себя так деликатно, что я теперь составила о вас очень высокое мнение». И я намекнула ему слегка, в чем состоит это высокое мнение, то есть, что он такой честный, хороший, прямой человек, который если и думает что, то скажет это скорее в глаза, а за глаза не очернит. Он не отнекивался, но вместо того, чтоб сказать с своей стороны что-нибудь положительное, возвращал мне только мои же вопросы…
С чего я взяла, что он обо мне дурного мнения? – Я объяснила ему истинную причину так откровенно, как только могла, сказав, что многие обвиняли Поля в смерти первой его жены и что, как водится, доля подобного обвинения упала и на меня. Люди легки на осуждения, объяснила я: вторая жена, ну, значит, и виновата. Он стал отнекиваться, делая вид, что не понимает, с какой стати я отношу это к нему… А сам между тем так и смотрел в глаза.
Это была такая пытка, что я чуть не плакала… Сигара моя упала на платье, но я не заметила. «На что он мучит меня? – думала я. – Зачем не хочет сказать мне правду, когда видит ясно, что я сама на это иду?.. Или он думает, что я уж такая тварь, с которой нельзя и объясниться по-человечески?» Не помню, как именно это случилось, только я, наконец, вытерпела и сказала ему в глаза, что это нехорошо, что он не искренен со мною; что он таит на душе что-нибудь, чего не хочет сказать, и что мне это больно, ужасно больно! После того я взяла его за руки и стала уж прямо умолять, чтобы он не мучил меня, а если имел или имеет что-нибудь против меня, то лучше сказал бы мне просто.
Не знаю, чем бы это окончилось, если бы тут не вмешался случай. В комнате вдруг запахло дымом. Мы стали осматриваться и увидали, что платье мое горит. Я страшно перепугалась: он кинулся на колени к моим ногам и начал тушить. Когда я увидела, что руки его обожжены, не знаю уж, что со мною и сделалось. Я упала к нему на шею, потом вырвалась и, горя от стыда, убежала.
Оставшись одна, я просто была в отчаянии. Более часу прошло, как мы с ним сидели вдвоем, и Поль мог скоро вернуться, а я еще ничего не узнала. Потухшие юбки валялись в моих ногах, но я сама была еще вся в огне и жадно глотала холодную воду: один, два, три стакана. Наконец это прошло; я оделась и вышла к нему спокойная. Не знаю, это ли было причиной, или он сам надумался, только на этот раз дело пошло удачнее. Я решилась идти прямо к цели и завела речь об Ольге. Это его раздражало, и он отвечал мне резко. Слово за слово: «Была отравлена». – «Не была». – «Была, мне это известно». – «Что вам известно?» – «Все».
Сердце у меня обмерло. Однако я справилась и, подумав, отвечала ему, что это неправда, потому что если бы он знал, он бы не стал молчать.
Он посмотрел как-то странно, словно его удивил мой вопрос, и отвечал очень просто, что он не желает мстить. Это меня так поразило, что я совсем растерялась и чуть не выдала себя. Не припомню теперь, как именно это было; помню только, что после первых слов я стала опять его укорять, зачем он не хочет сказать прямо всю правду. Он отвечал, что не может сказать всего и что я не вправе его укорять за это, потому что я и сама с ним не искренна.
Тогда, признаюсь, я струсила и, не решаясь идти до конца, свернула в сторону.
– Не знаю, – сказала я, намекая на поцелуй, – кто из нас двух в долгу по части искренности, но, кажется, я вам и так сказала уже сегодня больше, чем следует.
Он понял и вместо ответа поцеловал мне руку. «Чего же еще?» – думала я, чувствуя, что у меня от сердца совсем отлегло. И пробуя осторожно почву, на которой мелькнула мне эта надежда, я стала манить его за собой куда-то… Увы! Я и сама не знала еще, куда!
VII
Опять он со своими услугами! Навязывает паи. Вчера пилил целый час, а я отшучивался: но, наконец, это протерлось и стало сквозить. Ребенок понял бы, что ему предлагают даром. Я так ему и сказал.
– Я, – говорю, – не так глуп, чтобы уж вовсе тут ничего не смыслить; я вижу и сам, что не рискую ничем.
– Так что ж? – говорит. – За чем дело стало?
– Затем, что я не хочу брать даром чужие деньги.
– Чьи ж это чужие?
– Это мне все равно: чьи бы ни было.
– Кончите, господа! – сказала Юлия Николаевна. – Терпеть не могу, когда вы затеваете ваш деловой разговор!
– Постой, сию минуту. А в карты выиграешь – возьмешь?
– В картах есть риск.
Бодягин пожал плечами и сквозь натянутую усмешку его мелькнуло что-то озлобленное.
– Ну, брат, – сказал он, – я уж не знаю, как тебя и понять. То «не хочу, потому что рискованно», то «потому, что риску нет». Ты просто виляешь!
– Нет, Павел Иванович, это напраслина… Я тебе говорю, что мне эта игра противна во всяком виде: с риском, потому что я не желаю, чтобы меня обыгрывали, без риску, наверняка, потому, что я не шулер.
– Что же, мы все, по-твоему, шулера?
– Не знаю. Если, как следует полагать, вы чем-нибудь поплачиваетесь за то, что кладете себе в карман, то, разумеется, нет. Но мне платить нечем, потому что я в ваших делах ни при чем; а даром я не хочу ни гроша.
– Принцип, значит?
– Ну, да, как хочешь толкуй; я о кличках не спорю.
– А если не споришь, так я же тебе скажу, что это такое. Это, брат, спесь. Не хочешь принять от приятеля доброй услуги.
– Ну, пусть будет спесь.
– Тебе, значит, все равно, как я это пойму?
– Нет, я желаю, чтобы ты понял меня как следует, а там величай, как хочешь, это мне все равно.
– Сергей Михайлович! Любезный друг! Это не по-приятельски!
– Да, это очень нехорошо, – подтвердила Бодягина.
– Ну, вот, и вы туда же, Юлия Николаевна! А я надеялся, что вы за меня заступитесь. Полно, брат Павел Иванович! Мы с тобою уже не юноши и не в Аркадии[29] родились. Мы знаем, что по-приятельски! Не по-приятельски навязывать человеку благодеяния, о которых он не просил и которых он положительно не желает.
– Я не навязываю… Мне любопытно только узнать истинную причину отказа. Разве ты имеешь что-нибудь против меня? Зол на меня за что-нибудь?
– Поль! Что это ты?
– Оставь, пожалуйста! Я знаю, что говорю.
– Нет, Павел Иваныч, не знаешь, – отвечал я. – Это пустые речи на ветер, без всякого повода, и если мы раз начнем в таком тоне, то никогда не кончим.
Бодягин хотел что-то сказать, но, взглянув на встревоженное лицо жены, одумался, встал и вышел.
Она сидела с минуту, прислушиваясь, потом обернулась быстро ко мне.
– Ах! Ради Бога! – сказала она, всплеснув руками. – Зачем вы его выводите из себя? Зачем не хотите сделать ему в угоду такой безделицы? Вы видите, как это его огорчает!
– Не могу, Юлия Николаевна, и вы ошибаетесь, называя это безделицей. Это совсем не безделица – это подкуп.
– Как подкуп? Что это значит?
– Так, у нас с ним есть старые счеты.
– Ах, Боже мой! Вы меня пугаете!
– А вы разве не знали?
Бодягина вздрогнула и уставила на меня встревоженные глаза.
– Успокойтесь, – сказал я. – С моей стороны вам нечего опасаться. Я вам сказал уже это раз, и теперь повторяю еще, что вам нет надобности меня подкупать.
Руки ее опустились; оторопелый, растерянный взгляд блуждал без цели.
– Что с вами? – сказал я, испуганный мертвым цветом ее лица.
– Вам дурно?
Она не отвечала. Я налил воды и подал ей. Зубы ее стучали о край стакана.
Прошло с минуту. Вдруг она сунула мне назад стакан.
– Идет, – шепнула она, прислушиваясь. – О! Бога ради, ни слова при нем.
Это меня удивило, но я не успел спросить объяснения. Бодягин вошел.
VIII
Несколько дней после того я убаюкивала себя надеждой, что Черезов не потребует от меня прямого признания. «На что оно? – думала я. – На что, вообще, формальное объяснение между людьми, которые понимают друг друга? Давеча, когда я упрекнула его в неискренности, он сам сказал, что в жизни часто бывают такие случаи, когда невозможно сказать всего. А я прибавлю: бывают такие сделки и отношения, о которых из скромности лучше молчать. Что ж делать? Он рыцарь, но ведь и рыцари иногда не прочь от сладкой награды».
Так думала я, как вдруг он пришел и тремя словами рассыпал все это в прах. Он просто сказал мне: вам нет надобности меня подкупать. Это случилось после горячего объяснения с Полем, который сманивал его в долю по нашей новой дороге. Поль был взбешен его отказом и, чтобы скрыть это, вышел из комнаты. Мы на минуту остались одни. Тогда и сказаны были эти слова. Они были очень обидны. Он, не задумываясь, поставил все сердечное, что видел с моей стороны, на одну доску с паями, которые Поль ему предлагал, и назвал все это одним словом: подкуп! Мало того, он бросил мне прямо в глаза, что до сих пор было маскировано, то есть, что я открыта. Это ужасно меня испугало, и с испугу весь мой расчет, вся вера в него пошатнулась. Почем я знала, если уже на то пошло, не лжет ли он, утверждая, что не намерен мстить? Может быть, это уловка, чтобы вымолить у меня признание? Может быть, все это входит в план его действий и каждый шаг его, каждое слово рассчитаны? А я?.. Но я была так перепугана, что у меня в глазах помутилось, и я едва не упала к его ногам без чувств.
Он дал мне воды. К несчастью, прежде, чем я успела оправиться, Поль вошел.
– Что с тобою? – спросил он, взглянув сперва на Черезова, потом на меня.
– Ничего, – отвечала я. – Так, голова кружится.
– Хм, кружится!.. Смотри, чтоб совсем не вскружилась.
Это было, что называется, из огня да в полымя. Я знала уже, чего ожидать, и молила Бога только, чтобы Черезов поскорее ушел. Должно быть он угадал это, потому что в ту же минуту встал и взялся за шляпу.
В дверях Поль сказал ему:
– Так ты отказываешься? Он отвечал, не оборачиваясь:
– Отказываюсь.
Поль воротился с ужасным лицом и прямо ко мне.
– Что у вас тут случилось?
– У нас?.. Ничего.
– Как ничего? На тебе лица не было! Говори правду: вы объяснились?
– Нет.
– А?.. Отпираешься?.. Да что, ты стакнулась[30], что ли, с ним? И пошла пытка, долгая, отвратительная. Ни ложь, ни правда не помогали. Он ничему не верил. В голове у него засела мысль, что я его продала, что я любовница Черезова и что мы в заговоре. Кто его знает, может быть, думал уже, что мы затеваем его извести. Он топал ногами, ругался, кричал, грозил убить меня, если я сию минуту не признаюсь во всем, и раза два я, правда, думала, что он это исполнит. В слезах, и не зная, как его успокоить, я, наконец, сказала, что если так, то не хочу и видеть этого человека.
– Я не искала его, – говорю, – ты сам мне его навязал и мне надоело это до смерти. Верь или не верь, как знаешь, это мне все равно, но мне не все равно и я не хочу, чтобы из-за него у нас был ад в доме! Избавь меня от него совсем, чтобы мне не видеть его, чтобы духу его тут не было!
Выходка эта произвела странное впечатление. Его словно стукнуло что-то. Буря упала вдруг. В лице появились забота, недоумение, страх. Он сел и долго сидел, взявшись руками за волосы, как человек, близкий к отчаянию.
– Темно! – ворчал он. – Темно!.. Ни зги не видать!.. Проклятое, безвыходное сплетение…
– Что это значит? – спросила я, смотря на него с удивлением.
Он словно проснулся.
– То значит, что я тебе не верю; ну, да и ты мне тоже. Нечего, значит, много и говорить… Ну, а насчет того, прочего, ты мне не рассказывай пустяков. Так нельзя. Ты слышала: вон он, каналья, прямо в глаза уже говорит, что не хочет со мною иметь никакого дела! Нельзя, слышишь ли ты? Его нельзя выгнать! А что до того, что надоело, так это еще невелика беда. Сама виновата, сама и терпи… Ну, одним словом, ты понимаешь, я не хочу, чтобы ты с ним совсем разрывала.
– Не хочешь? – воскликнула я. – Да ты знаешь ли, чего хочешь? Ты что мне сейчас говорил? Ты за горло меня хватаешь из-за пустых подозрений, а когда я тебя прошу избавить меня от него совсем, потому что мне это не радость, а мука, ты отвечаешь: терпи! Так нет же, я не хочу терпеть!
– Не хочешь? – воскликнул он бешено.
– Нет! Я и так довольно уже натерпелась из-за тебя. Постой! Дай мне сказать. Да не лезь с кулаками, а не то я людей позову; я закричу на всю улицу, что мы с тобой вместе ее отравили! Стой! Стой! Дай мне сказать тебе правду. Ты мастер толкать других туда, где жарко и где можно руки себе обжечь, да потом их же и попрекать, зачем не умели сделать по-твоему. А ты зачем прячешься, если умеешь лучше? Ты сам попробуй; легко ли то, чему ты учишь других? Ты впутал меня в это проклятое дело; без тебя оно мне и на ум не пришло бы, а вот теперь я у тебя во всем виновата! Зачем я встретила его по пути? А ты зачем отправил туда меня? Зачем не поехал сам? Так и теперь: сам трусишь, меня толкаешь вперед, толкаешь свою жену чужому на шею, а после проходу ей не даешь! Какую жизнь ты мне сделал за это время? Каких насмешек, попреков, брани я от тебя не слыхала? И все за что? За то, что я поступила по-твоему! Возись с ним, как знаешь, сам, и делай что хочешь. Я больше тебе не помощница.
Что-то зловещее, хорошо знакомое, промелькнуло на бледном его лице.
– Смотри, полно так ли?
– Так.
– Эй, Юшка! Я тебе говорю, смотри, не перехитри! Тонко уж больно; на волоске висит. Сорвется, все к черту пойдет, и он первый. Потому, если уже пропадать, то я и его не выпущу. Я ему первому шею сверну.
Сказав это, он повернулся и вышел.
Ужас напал на меня при мысли, что уже не первый раз я слышу эту угрозу. Я не спала всю ночь и не могла придумать, что делать. Одно было ясно: надо предупредить Черезова, во что бы то ни стало и не теряя времени. Но как? Писать ему? Звать к себе? Безумство!
Утром, часу в двенадцатом, Поль уехал. Недолго думая, я оделась и вышла из дому одна. Адрес был мне знаком. Я села на первого попавшегося извозчика и в пять минут была у его дверей.
IX
Это было поутру, в первом часу. Сижу, входит Иван.
– К вам дама.
– Проси.
Смотрю, отворяются двери, и входит женщина в черном, лицо под вуалью. Меня так и бросило в холод. Я вспомнил старый, не раз повторявшийся сон. Но вот она открыла лицо, и я увидел Бодягину.
– Вы? – сказал я в неописанном удивлении.
– Как видите.
Она была страшно бледна и имела расстроенный вид. Я усадил ее.
– Что с вами? Отчего у вас такое усталое, измученное лицо?
– Немудрено, – говорит. – С тех пор, как мы расстались, я не сомкнула глаз. Если бы вы знали, что происходило вчера после того, как вы ушли! Муж догадался, что у нас было что-то, и сделал мне страшную сцену. Он раздражен. Подозревает меня и вас. Грозит. О! Ради Бога, поберегитесь! Я только за тем и пришла, чтоб вас остеречь. Я ночь не спала от страха за вас. Боюсь, чтобы не случилось чего-нибудь.
Я спросил, что же, по ее мнению, может случиться.
– Не знаю, – отвечала она, дрожа и закрывая руками лицо. – Он бешеный человек, и когда в таком состоянии, от него можно всего ожидать… всего!
– Что ж вы его не успокоите? Объясните ему, что он напрасно хлопочет.
– Ах, Боже мой! Как это сделать? Я пробовала вчера. Я с ним из сил выбилась. Он ничему не верит, думает, что я с вами в заговоре. Думает… я уж боюсь и угадывать, что он думает.
– Вы желаете, чтобы я прекратил мои посещения?
– Нет… Я не знаю. Боюсь, чтобы это хуже его не встревожило.
– Что же мне делать?
– Лучше всего, если бы вы приняли его предложения, если это теперь не поздно.
– Нет, – отвечал я. – Об этом и думать нечего.
– Почему?
– Я вам объяснил уже, почему.
– Ах, да! – спохватилась она. – Скажите, за что вы меня обидели!
– Я не имел намерения вас обижать.
– Однако обидели! В чем бы я ни была виновата, только не в том, чем вы вчера меня попрекнули. Если я вам советовала принять услуги Поля, то сделала это вовсе не с целью вас подкупить. Я просто боялась ссоры. Но вы не это одно назвали подкупом.
– Что вы хотите сказать?
– То, что я вам хочу сказать, – отвечала она, – трудно сказывается: вы судите обо мне хуже, чем я заслуживаю. Что вы так смотрите? Вы думаете, что разница, в крайнем случае, невелика, но это для вас, а для меня… Вы знаете: одна лишняя капля переполняет сосуд… Так вот, я об этой капле: возьмите ее назад, потому что она превышает меру. Вы меня обвинили в подкупе. Не знаю, как вы это понимаете, но если вы думаете, что я имела умысел вас обольстить и с этою целью играла комедию, то это неправда. Не то, чтобы я неспособна была ее играть, но… это было излишнее… Я не имела нужды разыгрывать то, что родилось во мне естественно и невольно. Верьте мне! Умоляю вас! Верьте! Какая нужда мне вас обманывать, теперь, когда я имею ваше ручательство, что мне от вас нечего опасаться? О! Мне так стыдно и совестно, что я должна вам это сказать. Но вы меня вынудили. Сергей Михайлович! Я знаю, что я недостойна вас. Я злая, дурная женщина, но все же женщина, и во внимание к этому будьте великодушны, не оскорбляйте меня вконец: скажите, что вы мне верите.
– Юлия Николаевна! – сказал я. – При всем желании я не могу отвечать утвердительно, пока не дождусь от вас полной искренности. Довольно мы с вами играли в прятки. Признайтесь…
– Тсс… – быстро шепнула Бодягина, вздрогнув всем телом. Испуганный взор ее забегал тревожно вокруг.
– Не бойтесь, нас не услышат, а, впрочем… – Я вышел, сказал два слова Ивану и, воротясь, запер дверь на ключ. – Вы отравили кузину?
Молчание. Она побелела как холст и сидела вся съежившись, опустившись, как осужденная, которая ожидает казни.
– Скажите мне одно слово: «да»?
– Нет, – прошептала она.
– Как «нет»?.. Вы были у ней в сентябре?
Она молчала с минуту, как бы колеблясь, потом отвечала:
– Да.
– И вы же были потом в ноябре?
– Нет.
Я совершенно остолбенел.
«Возможно ли? – думал я. – Неужели я ошибся?» Но это смущение, этот ужас и все, что я видел, слышал от ней – как объяснить это все, если она невинна?
– Кто ж был в ноябре?
Бодягина посмотрела мне как-то странно в глаза, и опять я заметил в ней колебание.
– А вы разве не знаете? – спросила она.
Меня как ножом срезало, однако, я ответил ей храбро:
– Я знаю, Юлия Николаевна, знаю, что это были вы!
– О! Нет! – возразила она горячо. – Не говорите этого. Если вы говорите это, то вы ничего не знаете. Это ошибка, клянусь вам! Я виновата вне всякого оправдания, потому что не скрою от вас: я знала об этом деле и, может быть, больше всех им воспользовалась, но чтобы я сама… О! Боже мой! Неужели вы обо мне это думали?
Что было отвечать? Она поймала меня, или я сам попался… Какой-то инстинкт шептал мне, что она лжет, но что в том, если я не имел возможности ее уличить? А я не имел никакой. Лицо, приезжавшее в ноябре, могло быть и прежде того, в сентябре, могло явиться в похожих условиях, и все-таки я ей не мог доказать, что это она.
– Кто же, по-вашему, это сделал? – спросил я.
Она закрыла лицо руками.
– Он, – прошептала она.
– Ваш муж?
– Да.
– Но не сам же?
– О! Нет, конечно; он нанял чужие руки.
– Чьи?.. Имя?.. Скажите мне имя!
– Нет, не скажу; я дала клятву.
– Ну, полноте! Клятва не помешала вам выдать мужа. Она вся вспыхнула.
– Я не думала его выдавать, – отвечала она горячо. – Я… попалась… Я была так уверена, что вы знаете все. Сама двадцать раз собиралась об этом заговорить, чтобы между нами не было тайны, – но не решилась. Голубчик! Простите! Не проклинайте! Я ей не желала зла… Мне жалко было ее, Бог знает, как жалко, но я малодушная женщина; меня опутали, и я не знала всего, пока все не было уже невозвратно кончено. Простите меня! Простите!
Лицо ее было в слезах. Она соскользнула к моим ногам. Все спуталось у меня в голове…
Падающий стремглав не думает о своем положении, он только чувствует, что не в силах остановиться. Так и я чувствовал. После, когда она ушла, я мог презирать себя на досуге, сколько угодно, но это уже не вело ни к чему. Я был обожжен и в крови у меня горела отрава неизлечимой страсти.





