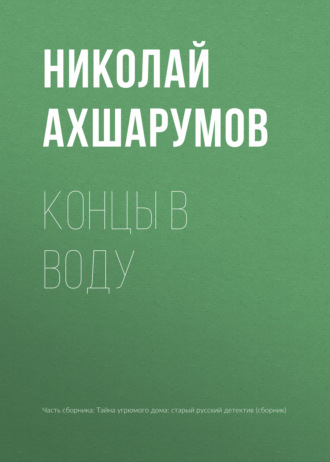
Николай Ахшарумов
Концы в воду
IV
Недели три я была сама не своя: не ела, не спала, гадала, молилась, ставила свечи перед иконами и часто, по целым часам, сидела над колыбелью моей малютки, в горьких слезах раздумывая о том, что с нею будет, если меня постигнет несчастье. Тень Ольги, с блестящими, страшно расширенными глазами и вздутым лицом, в последний год оставившая меня немного в покое, стала опять моей неразлучной подругой, и никогда она не казалась мне так страшна, никогда я не мучилась так при мысли, что не могу от нее отвязаться. От Поля я мало имела помощи. Он вообще не любил, когда я расстроена или печальна, и требовал, чтобы я всегда являлась к нему с веселым лицом, а до того, что под этим лицом, ему было мало дела. Это всегда огорчало меня, но теперь стало как-то особенно тяжело и обидно. «Что ж, – думала я, – разве я ему не жена и разве у нас теперь не все общее?» Казалось бы, так естественно искать совета и утешения у человека – единственного на свете, которому я могла все открыть и который был опытнее, умнее меня, а между тем я часто не смела к нему приступиться, так он стал мрачен, нетерпелив и груб, теперь особенно, когда я, на свою беду, дала ему повод все сваливать на меня.
Черезов что-то не шел, и я уже видела, что это тревожит Поля более, чем он хочет мне показать… Он был всегда так скрытен!
– Поль! – как-то раз сказала я. – Он не идет.
– А, тебе уж не терпится?
Это меня обидело, и я его выругала.
– Ну, поздно уж теперь говорить комплименты!.. Мы знаем друг друга… Рада ведь?.. Только ты погоди радоваться. Черт его знает, что у него на уме. Может, его и не залучишь теперь сюда.
Опасение это, однако, оказалось преувеличенно. Дня через три он был у нас в ложе и после того стал частым гостем. С одной стороны – это казалось успокоительно, но мы не знали его намерений, и Поль имел все причины его опасаться, потому что он отказался от места, которое было ему предложено. Это случилось в тот самый день, когда Поль привез его в ложу.
– Уж ты, пожалуйста, мне не рассказывай, – говорил он потом, когда мы легли спать. – Уж я его знаю. Мне стоит только на рожу его взглянуть, чтобы сказать наверное, когда он лжет. Восемь, мол, лет жил рассудительно, надоело, хочу хоть с год подурачиться. Ты понимаешь ли, что это значит? Это значит: отваливай, мол, любезный друг, не стоит об этом толковать! Спесь, понимаешь ли, проклятая, старая, барская спесь! Мало была еще в переделке, не выдохлась! У меня, мол, своих 30000; имею право лежать на боку и тыкать тебе в глаза своей незапятнанной чистотою, если еще не хуже чем-нибудь, чего, разумеется, тебе не скажу – ты понимаешь? Но, кроме барства, тут есть еще и другая закваска. Это вот, видишь ли, один из тех книжников, которые, раз ошалев, возмечтали себя богами и с тех пор не могут никак разувериться, не могут понять, что им, как и всем, есть нужно. Они витают в каком-то эфире и все житейское мнится им ниже их высоты. Пока у них водится что-нибудь в кармане, хоть пять рублей, чтоб выйти на улицу джентльменом, в перчатках и в чистом белье, до тех пор к ним и приступу нет. Фыркает себе под нос, как кот, плюет на все и пальцем ни до чего не дотронется. Все подлость, все для него презренно. А вот как дофыркается до того, что рубаху выстирать не на что и зубы приходится положить на полку, тогда ты и купишь его за грош… Черезов этот как раз из таких, и я тебе должен признаться, просто ума не приложу, что мне с ним делать, кроме того, как хватить разве просто в физиономию, да потом пулю в лоб.
– Нет! – вскрикнула я. – Нет! Ради Бога, не говори о таких вещах!
– А что, тебе жалко его?
– Жалко не жалко, а это тоску наводит. Все думается: неужто не кончено? Неужели мало того, что было?
– А что же делать, если окажется мало?.. Кто виноват?
Я разревелась. Он встал и вышел, оставив меня на всю ночь одну, с моею тоской, с моими страхами… Бессонная ночь! Чего только ты не приводишь с собою? Какие думы не посетят больной головы, когда подушка под нею в огне и она не находит себе до света покою? Я думала; никогда еще, кажется, даже в ту пору, когда эта проклятая мысль зрела в моей голове, не думала я так много, как в эти дни, потому что я никогда еще не была так одинока. Прежде была у меня хоть няня, думала я; она и теперь есть, да на что мне она теперь? Что я могу ей сказать?.. Потом был Яснев, потом Поль. Но Поль теперь стал неприступен, и что я ему ни скажу от души, все только злит его. И еще я думала: как тяжело одиночество! Нет никакой опоры, не к чему прислониться и отдохнуть, все надо идти, идти куда-то, как вечный жид, и все нести на своих плечах. К кому я теперь могу обратиться? От кого ожидать участия и совета? И я вспомнила невольно Яснева. «Ах, – думала я, – если б Яснев был, здесь, мне кажется, я бы не утерпела. Была не была, а уж я бы ему рассказала все. Не знаю, что из этого вышло бы; может быть, он оттолкнул бы меня после этого, но за одно я ручаюсь: он бы меня не выдал. Нет, он был не из тех людей, которые, как бараны, бегут не оглядываясь, все в одну сторону. У него был свой взгляд на вещи, кроткий и снисходительный, и он любил меня как дитя. Я даже думаю, что он бы меня не оттолкнул, как бы я ни была скверна, хоть вся выпачкана в крови, и тогда не оттолкнул бы. В нем было что-то такое собачье; я разумею, что он был верен и предан мне как собака, без рассуждений и без оценки, так просто…
Какое бы это было счастье, если бы он был тут!.. Я бы ему рассказала все… все… и он хотя, конечно, не научил бы меня, что делать, – на этот счет он был плох, – но он бы меня пригрел и утешил».
Все это я вам рассказываю не даром, а для того, чтоб вы знали, в каком состоянии я была около того времени, когда Черезов стал у нас частым гостем. Кажется, я говорила вам, что еще с первой встречи, в Москве, он мне понравился. Он был умен и насмешлив, и это было написано у него на лице. Во взгляде, в лице, во всей фигуре его было что-то особенное, оригинальное. Он мне напоминал один старый портрет какого-то итальянца или испанца, который висел у маман в столовой и которым няня пугала меня еще ребенком, когда я капризничала. Весь в черном был тот, на портрете, худой такой, с большим острым носом и с умными выразительными глазами; борода клином, точь-в-точь, как у Черезова. Помню, иной раз, под вечер, когда мне нужно бывало пройти одной через эту комнату, с каким безотчетным страхом косилась я на его строгое, сумрачное лицо. Мне казалось, что он глядит на меня с притаенной усмешкой на тонких губах и что в этой усмешке есть что-то, словно он знает что-нибудь про меня, чего я и сама еще не знаю! Нечто похожее я чувствовала теперь, когда замечала, что Черезов вглядывается в меня. Я чуяла, что он или знает что-нибудь, или догадывается, и мне казалось, что он недаром тут, что у него есть умысел, который он скрывает; одним словом, что это нечто вроде того неизвестного человека, который в драмах является на пиру и говорит загадками. Не удивляйтесь, пожалуйста, если я вам скажу, что это не оттолкнуло меня, а напротив, расположило к нему. Если вас удивляет это, то вы не знаете женского сердца. Власть, и особенно власть таинственная, внушающая невольный страх, имеет для нас неотразимую прелесть. Не могу вам сказать отчего, но это так… Конечно, меня потянуло к нему не вдруг. Сначала он просто меня встревожил. Потом, когда я узнала, что это друг Ольги и что он был у нее немедленно после меня, я страшно струсила, и бывший услужливый милый мой попутчик вдруг показался мне каким-то «Каменным гостем», предвестником близкой расплаты.
Но вот этот гость обедал у нас и, несмотря на зловещее объяснение с Полем, после которого я не видала его недели три, несмотря на отказ от места, который тоже не предвещал ничего хорошего, оказался однако не каменным. Приехал к нам в ложу, потом с визитом, потом опять обедал и просидел до вечера, был разговорчив, внимателен, мил, со мною особенно. Это ручалось, что тайные цели его, каковы бы они там ни были, не грозят, по крайней мере, немедленною бедою. Страху поубыло, но зато любопытства прибыло, и я стала думать о нем, он овладел моим воображением до такой степени, что у меня скоро мысли не было в голове, которая бы прямым или окольным путем не прикоснулась к нему. В его отсутствие я вспоминала, что он делал и говорил; малейший взгляд, малейшее слово, – все для меня имело значение или, вернее, всему я придавала значение, – какое, об этом не спрашивайте, потому что я и сама не знала. Все путалось у меня в голове, все волновало: одну минуту радовало, другую тревожило, огорчало или пугало, чаще всего пугало, но, не несмотря на страх, я не теряла надежды. Я чувствовала каким-то инстинктом, что он не совсем равнодушен ко мне как к женщине, и, разумеется, делала все, что женщина обыкновенно делает в подобном случае, если она однажды решилась во что бы то ни стало достигнуть цели. Но это было трудно. В первое время, когда мне случалось оставаться с Черезовым наедине, я просто не узнавала себя. Вся прежняя смелость исчезла, и я робела, как обвиненная в присутствии инквизитора. Я все ждала, что он напомнит мне прошлое и затем спросит что-нибудь; куда я ехала, например, или удачно ли было мое путешествие? видела ли я, кого мне нужно было увидеть? И затем начнется допрос… Но никогда допроса не было, и это меня удивляло. Я не могла понять причину, заставлявшую его откладывать объяснение, которое почему-то казалось мне неизбежным. Я спрашивала себя: да так ли это? нет ли тут с его стороны какой-нибудь ловушки? Он говорил о посторонних вещах, а мне все казалось, что он подходит издали к тому, что у него на уме и что только и может его интересовать. В малейшем слове его я искала намека; малейший взгляд его, казалось, пронизывал меня насквозь, и я боялась подумать: что я такое в его глазах?.. Какая презренная, гадкая тварь! И это меня так мучило, мне так хотелось узнать поскорее худшее, что я чуть не сама шла навстречу ему, заводя разговор о таких предметах, которые представляли удобный случай высказываться. Но он не высказывался, и сколько я ни прислушивалась к его речам, я не могла заметить в них ничего похожего на затаенное чувство вражды или презрения. В своих разговорах с глазу на глаз со мной он говорил открыто, часто даже тепло и искренно, и в тоне его речей, в усмешке, во взгляде сквозила скорее жалость, скрываемая под видом обыкновенного, вежливого участия, чем что-нибудь другое. Все это невольно влекло, располагало меня к нему, и мало-помалу к страху стала примешиваться надежда, что в самом худшем случае он будет великодушен и не поступит, как поступил бы другой или, пожалуй, как он поступил бы с другою. А из этого вы, конечно, можете заключить, что я надеялась не на одно великодушие!.. Что ж делать? Это был чисто женский, невольный расчет, пожалуй, даже и не расчет, а так – какой-то инстинкт. В большой и внезапной опасности всякий невольно и прежде всего употребляет те средства защиты, которыми наделила его природа, так как они вернее, и он владеет ими лучше других. А у меня, кроме природы, были еще и советы Поля; да что я говорю советы? – требования! Он просто сказал мне, что это необходимо.
Насчет успеха я и сама сначала не знала, что думать. То мне казалось, что я Бог знает как далеко зашла, то, что я даже шагу не сделала. В действительности я точно ушла и дальше, чем думала, да только совсем не туда, куда думала. К чему говорить, куда? Вы сами угадываете. Вы уже поняли, без сомнения, к чему это ведет, когда женщина с таким несчастным темпераментом, как у меня, думает день и ночь о ком-нибудь, кто ей нравится и от кого зависит ее судьба. Малейший толчок, малейшая искра, и человек стал для нее всем, стал ее властелином, идолом. Так и случилось. Едва я успела заметить нечто похожее на огонь с его стороны, как сама была уже вся в огне. Как это случилось, я не могу объяснить, потому что это пришло внезапно и захватило меня врасплох.
Помню, что перед этим я была страшно утомлена. Я проводила уж третий месяц в каком-то безвыходном напряжении всех сил, нравственных и физических. В голове путаница, на сердце тоска, и ни минуты покоя: то гости, то выезды, то Поль тормошит. Поль, несмотря на то, что я была только послушна ему, сходил с ума от ревности и делал мне иногда такие сцены, что я готова была бежать из дома. Мне нужен был отдых, а отдыха не было, и я не знала даже, с какой стороны его ожидать. Но именно это-то чувство беспомощности и придавало мне ту решимость отчаяния, с которой утопающий готов ухватиться за что попало, хотя бы даже за лезвие острой бритвы. В таком состоянии духа я часто ждала появления Черезова с особенным, лихорадочным нетерпением, похожим на то, которое ощущает тяжело больной, ожидающий доктора. Что бы он ни сказал, все кажется лучше, чем неизвестность, а между тем в сердце невольно таится надежда услышать что-нибудь утешительное. И вот нечто похожее на такую надежду шептало мне, что этот Черезов добрый, прямой человек, на слово которого я могу вполне положиться, если он скажет прямо, что знает все, но не ищет моей погибели. «О, – думала я, – какое бы это было счастье и как благодарна была бы я за такое слово! Я бы упала к его ногам и вымолила себе прощение!» И я представляла себе целые сцены: что он сказал бы, что я бы ему отвечала. И сцены эти варьировались в моей голове до бесконечности, но все как-то странно кончалось тем, что я кидалась в его объятия и плакала, скрывая свое лицо у него на груди.
Все это было значительно, но я в ту пору еще не понимала так ясно, как поняла потом, что это значит. Действительность казалась мне так далека от моих фантазий.
Мы с ним сходились довольно часто и говорили, по-видимому, довольно искренно, но все это как-то кончилось ничем. Только он с каждым разом мне становился милее, и вера моя в него росла.
Раз как-то мы с ним сидели наедине; речь зашла о женитьбе. Я, кажется, спросила: отчего он не женится?
– Знаете, Юлия Николаевна, – сказал он, – прекурьезное дело – эта вербовка в свой полк со стороны семейных людей. Все они это советуют. Следовало бы думать, что если не все, то хоть большая часть очень довольны своею службою. А между тем, согласитесь, что это вздор, и что ваш полк куражится только по той причине, что ему струсить некуда.
– Ну, это нельзя сказать вообще, – отвечала я. – Что же бы делали девушки, если бы все смотрели на это, как вы?
– Покорно благодарю! Вы, значит, хлопочете не обо мне, а о той неизвестной, которой нечего будет делать, если я не последую вашему совету?
– Что ж? – говорю. – Если б и так? Почему не желать ей счастья?
– А вы с чего взяли, что я ее сделаю счастливою? При всем желании она может мне надоесть через полгода, и я ее брошу.
– Нет, вы этого не сделаете.
– Ну, так она сделает.
– Полноте, разве вы бы могли полюбить такую?
– Почему же нет?.. Разве любовь дается как пенсия, за заслуги?.. Собственно говоря, я даже не знаю, за что она дается, да и вы тоже. Ведь вот же вы говорили, что донна Анна могла полюбить Дон Жуана?
– Да, это правда.
– Ну, я хоть и не донна Анна, а все же не поручусь за себя, потому что любовь зла, и трудно что-нибудь рассчитать, когда голова кружится: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю… и в дуновении чумы…»[28]
– Ах, да! – воскликнула я. – Не правда ли, как это прекрасно сказано?
– Да, сказано хорошо, но согласитесь, что удовольствия этого рода на деле обходятся слишком дорого, чтобы их можно было серьезно искать… Ну, представьте себе какую-нибудь такую бездну в действительности. Вы увлеклись, как только способен увлечься тот, кто любит от полноты живого, горячего сердца, и отдали ей себя всего, со всем вашим прошлым и будущим, со всеми помыслами и упованиями. Конечно, она все примет, на то она и бездна, но спрашивается, на что ей все это и что она может дать вам взамен, кроме минуты дикого упоения?
Я не совсем поняла, но то, что я поняла, ужасно смутило меня. Сперва я, как дура, обрадовалась чему-то, потом мне стало больно, стыдно и дурно до тошноты.
– Живой человек – не яма, – пробормотала я, совершенно растерянная.
Он посмотрел на меня как-то печально.
– Да, – говорит, – конечно… Но если он не живой? Если в нем сердца нет, или оно уже умерло?
Кто-то вошел, и мы замолчали. Я была вне себя и при первой возможности убежала из комнаты. «Он знает все!» – думала я, но, странно сказать, теперь не это уже меня смущало. Меня смущала мысль, что человек этот – такой милый, славный, мог бы меня полюбить так, как он говорит, всем существом своим, если бы я не была такая скверная. Но он ошибается, если думает, что мне не нужно этого и что я оставила бы его без ответа… О! Ни за что! Я знаю цену ему, и я не мертвая: у меня есть сердце…
Короче, мне стало ясно, что я люблю Черезова… Открытие это сбило меня совершенно с толку, и прошло несколько времени прежде, чем я успела прийти в себя, но едва я пришла в себя, как все в голове у меня повернулось вверх дном, и прежде всего мое отношение к мужу. До сих пор я жалела, что между нами нет искренности; теперь поняла, что ее и не может быть. Конечно, он сам был в этом кругом виноват. С тех пор, как он приобрел меня в полную собственность, то обо мне уже больше не беспокоился. Я стала в его глазах не человеком, которому может нравиться или не нравиться что-нибудь, а какой-то тварью, которую он поднял из грязи, вычистил и взял в дом для своей утехи. Со мною не стоило церемониться, а стоило только дать мне понять, что я совершенно в его руках и обязана ему всем, должна только и думать о том, чтобы ему угождать, должна, одним словом, забыть себя и вся погрузиться в него, смотреть на него, как на бога. Не скажу, чтобы это особенно удивило меня: я знала отчасти, что это будет так, но надеялась, что такое состояние все-таки будет сносно. Если хотите, оно и было сносно, пока у нас интересы были одни. Мы были нужны друг другу и связаны крепко. Зная это и зная его характер, я уступала ему в мелочах, а крупных причин к несогласию у нас не было. Теперь все вдруг изменилось. Страстной любви к нему я уж давно не чувствовала, но с тех пор, как я стала думать о Черезове, к которому он сам меня толкнул как приманку, Поль мне совсем опостылел. Самая ревность его сделалась мне ненавистна, и я на нее смотрела, как на ошейник, который только дразнил меня, напоминая, что я у него в зависимости и что ему не нужно уж более меня ублажать, как ублажал когда-то, чтоб я от него не ушла, а стоит дернуть только покрепче да погрозить. Но он ошибся на этот счет, как вы все, господа, ошибаетесь. Он думал, что я не прочь кутнуть при удобном случае, но никак не думал, чтоб я могла серьезно сорваться с привязи и взглянуть на все это как-нибудь иначе, чем он сам на него смотрел. А между тем я смотрела уже совсем иначе. В ту пору, когда он думал, что страх быть открытою заставит меня возложить все надежды мои единственно на него и вверить себя, зажмурив глаза, его руководству, страх этот перестал уже быть моим главным двигателем, и я потеряла всякую веру в его руководство. Все, что у меня оставалось похожего на надежду, каким-то странным путем перенесено было на Черезова. Я говорю – странным путем, потому что и сама не знала, чего должна ожидать от Черезова и почему. Он не делал ни шагу, чтоб разъяснить мне этот вопрос, а между тем я не имела уже почти никакого сомнения, что тайна моя ему известна. И я любила его; мне казалось, что и он не совсем равнодушен ко мне; одним словом – это была такая путаница, такие потемки, из которых не терпелось выйти во что бы то ни стало. Но как? За недостатком лучшего оставалось только одно: самой идти навстречу ему и требовать объяснения.
Долго я колебалась и выжидала, в надежде, что случай придет мне на помощь, но случай не приходил. Тогда я потеряла терпение и раз как-то, запросто, назначила ему свидание у себя.
V
Я был у нее недавно утром, но едва мы успели начать разговор, как вошел слуга с докладом, что гости приехали… Она вся вспыхнула от досады.
– Это несносно! – сказала она, обращаясь ко мне. – Мне не дают вас и на пять минут! Мне мало этого. Месье Черезов! Хотите вы сделать мне удовольствие? Слушайте: завтра Павел Иванович в собрании, и я буду одна весь вечер. Если вы не боитесь соскучиться, то приходите. После обеда, в 8-м часу, или нет, – лучше в 8. В восемь я буду наверно одна.
Я был, и мы просидели вдвоем часа три. Не помню, с чего у нас началось, только она казалась расстроенною и жаловалась, что нездоровится. Я спросил, что с ней?
– Так, ничего, – она закрыла руками лицо и сидела с минуту молча. – Скажите, вам это должно казаться странно?
– Что странно, Юлия Николаевна?
– Да то, что я завладела вами, и что мы так… одни… Но, – заключила она с какой-то странной усмешкой, – это, если не ошибаюсь, уже не в первый раз.
– Да, кажется, – я отвечал, смеясь. – Хотите сигарку? (Она не курила при мне до сих пор).
– Дайте.
Мы закурили; рука у нее слегка дрожала.
– Послушайте, – продолжала она, – вы так скромны и так деликатны, что я наконец не вижу, к чему играть с вами в прятки. Это ребячество. Дайте мне вашу руку и верьте, что я умею ценить ваше молчание. Скажите: неужели вы серьезно думали, что я вас не узнала?
Я отвечал, что не знал: желает ли она меня узнавать.
– Ну, насчет этого я и сама не знала. Встреча тогда была так коротка, что я не могла быть уверена в вас, как теперь уверена. Я могла думать… вы понимаете, я в ту пору была совсем в других обстоятельствах и не дорожила всем тем, чем теперь должна дорожить. Почем я знала, за кого вы меня в ту пору приняли и как вы вследствие этого обойдетесь со мной? И я, признаюсь, немножко струхнула, когда узнала вас. Но потом я сама поняла, что это было глупо… Ужасно глупо! Не правда ли?
Я не знал, что сказать.
– Надеюсь, – отвечал я, смеясь, – что я вам не дал причины меня опасаться?
– О! Нет… Напротив. Вы больше чем деликатны; вы человек справедливый и честный, такой человек, одним словом, который, если он думает дурно о женщине, то может сказать или не сказать ей это в глаза, но никогда не обидит ее за глаза и не осудит без положительных, ясных причин. Не правда ли?
– Да, – говорю, – конечно; только я вас прошу, будьте уж искренни до конца и скажите мне прямо: что вас заставляет предполагать, что я могу о вас думать дурно?
– Ах! – отвечала она вздохнув. – Очень и очень многое. Главное то, что обо мне многие думают дурно. Вы знаете, я в разводе или была в разводе, а это одно уж бросает тень. Затем, мое прошлое, конечно, небезупречно. Виною тому отчасти несчастный брак, отчасти, может быть, и слишком живой темперамент. Меня почти ребенком выдали замуж за человека, которого я ненавидела. Когда-нибудь я расскажу вам это подробно; только я вас прошу заранее, не будьте ко мне слишком строги.
– Полноте, Юлия Николаевна, вы шутите!.. С чего вы взяли, что я могу когда-нибудь осуждать женщину за ту мизерную долю свободы, которую она вырывает из рук своих тюремщиков? Скажите мне лучше какую-нибудь другую причину, если другая есть.
– Есть, – отвечала она, подумав. – И вы, как родственник Поля по первой жене, должны ее сами знать. Его обвиняли косвенно или прямо в смерти этой несчастной. Доля подобного обвинения, как ни нелепо оно, должна была неизбежно упасть и на меня. Вы понимаете?
– Понимаю, но вы же ведь говорите, что это нелепо?
– В моих глазах – да. Но люди, видите ли, не церемонятся с заключениями: вторая жена, – ну, стало быть, ясно, она и виновата.
В ответ на это я напомнил ее высокое мнение обо мне.
– Вы, – говорю, – сейчас сказали, что не считаете меня за человека, способного осудить кого-нибудь без положительных ясных причин.
Молчание. Я смотрел на нее, не спуская глаз, а она смотрела на край своей юбки, кусала тихонько губы и морщила лоб, что сообщало ей несколько озадаченный и даже сконфуженный вид. Но это было естественно при таком объяснении.
– Положим, что, впрочем, недалеко от истины, – продолжал я, – что я не могу оправдать Павла Ивановича. Но почему вы думаете, что я переношу на вас долю его вины?
Она молчала в волнении.
– Не знаю, – сказала она, подумав. – Но мне иногда невольно приходит на мысль, что вы со мною не откровенны, что вы таите что-то на душе. И если б вы знали, как мне это больно! Если бы вы знали!.. – повторила она дрожащим голосом и вдруг, обернувшись ко мне, схватила меня горячо за обе руки. – Сергей Михайлович! Это нехорошо! За что?.. Не мучьте, скажите! Скажите мне прямо, если вы что-нибудь против меня имели, или имеете! Я хочу знать… Мне нужно… Мне дорого ваше доброе мнение, но мне еще дороже правда… Правду скажите мне! Правду!..
Тронутый этой выходкой, я вынужден был сказать ей что-нибудь соответствующее, но это был вздор, который она и сама, вероятно, сочла за вздор, потому что не слушала меня. Лицо у нее было расстроено, на ресницах – слезы. Не выпуская моих рук из своих, она откинулась назад и что-то шептала. Я не успел расслышать; внимание мое было привлечено каким-то запахом, сначала слабым, потом вдруг быстро усилившимся. Это был запах дыма.
– Что-то горит! – сказал я, осматриваясь. Она очнулась.
– Что? Где?
– Это ваша сигара… Вот она, на ковре… Ах, Боже мой! Платье!
– Где? Где?..
– А вот – смотрите!
Край юбки ее в самом деле тлел, и узкая огненная бордюрка внизу росла, дымясь и закручиваясь… В испуге она хотела вскочить, но я схватил ее крепко за руки:
– Куда?.. Сидите смирно! Иначе вы будете сию минуту в огне!
С трудом усадив ее, я кинулся на ковер, к ее ногам, и скомкал тлеющий край в руках. К счастью, нигде еще не успело вспыхнуть. Дым скоро исчез, но мне стало невмочь.
– Смотрите, – сказал я, бросив, – не тлеет ли где-нибудь? Она наклонилась; я тер обожженные руки. Лицо ее было так близко от моего, что волосы наши касались.
– Нет, ничего… потухло, но руки, руки ваши обожжены!
Странный тон голоса, которым сказаны были эти слова, за ставил меня посмотреть ей в глаза. Они полны были страсти, и два зрачка их, прямо против моих, светились каким-то янтарным огнем. В голове у меня пошло колесом, и мне стало вдруг страшно – не страшно, а как-то жутко. Я чувствовал, что она сию минуту будет в моих объятиях. Не успел я мигнуть, как руки ее обвились вокруг моей шеи и губы огненным поцелуем прильнули к моим губам.
Когда я пришел в себя, ее уже не было. Она убежала, и я сидел с четверть часа один, напрасно пытаясь сообразить, как это все случилось.
В комнату кто-то вошел. Это была ее горничная, которая напомнила, что у меня руки в саже. Я вымыл их и опять остался один.
Наконец она воротилась, спокойная. На ней было другое платье и, я прибавлю, другое лицо, будничное, потухшее, которое было мне хорошо знакомо.
Ни слова о прошедшем.
– Пойдемте в гостиную, здесь пахнет дымом.
Мы перешли в гостиную. Она отворила рояль, села и стала играть. Но ее игра была рассеянна, и лицо часто обращено ко мне с коротким ответом или вопросом.
– Я редко теперь курю… Отвыкла. И Павел Иванович не любит… У вас, однако, теперь другие сигары. Я помню те. Я выкурила всю вашу пачку в деревне, на Волге.
– Вы были на Волге?
– Да; с неделю. Сейчас после того, как я уехала из Москвы.
– У кого?
– У одного приятеля… Озарьева. Село Любуты; это на берегу, недалеко от Твери. А вы?
Я отвечал, что ездил в Р**, к кузине.
– Вы очень любили вашу кузину?
– Да, она была мой дорогой, мой лучший друг.
– Когда вы узнали о смерти ее, вы были очень огорчены? Я отвечал, что чуть с ума не сошел и долго был болен.
– Вы думали, что она была отравлена?
– Да, и думаю до сих пор.
– Почему?
Враждебное чувство зашевелилось во мне при этом допросе. «А?.. – думал я. – Тебе это нужно знать? Смотри, не обожгись». Я отвечал, что мне известны вещи, которые не оставляют места сомнению.
– Что же вам известно?
– Все.
Что-то сорвалось на клавишах, звуки игры стали тише, умолкли, и она обернулась ко мне совсем. Лицо ее было бледно и холодно, словно застывшее, но черты выражали решимость.
– Это неправда.
– Почем вы знаете?
– Тут нечего знать. Это ясно. Если б вы знали все, вы не держали бы этого в тайне. Я, по крайней мере, понять не могу. Как можно, зная такие вещи, молчать? Если она была отравлена, и если она была, как вы говорите, ваш лучший друг…
– Так что же?
– И если вы знаете, кто это сделал?
– Знаю.
– Чего же вы дожидаетесь? Почему не отомстите за ее смерть?
Вопрос был прост, но он затруднил меня в высшей степени, потому что коснулся как раз самого слабого места моей импровизации.
– Почему вы думаете, что я желаю мстить? – сказал я уклончиво.
Эффект вышел совсем неожиданный.
– Как, почему я думаю? – отвечала она, широко открывая глаза. – Я… ничего не думаю. Я… так… спросила. – Лицо ее вдруг оттаяло, решимость исчезла; она сидела сконфуженная и изумленная.
– Я не палач, – продолжал я, – и не чувствую никакой охоты быть палачом.
– Простите, – шептала она, краснея. – Я вижу, что сказала глупость. Выходит, что я еще мало знаю вас и мало умею ценить. Но вы отчасти сами в том виноваты. Зачем, скажите, зачем вы не хотите быть со мной искренним? Или я не заслуживаю доверия? Скажите мне, наконец, хоть это, чтобы я уже знала, что я такое в ваших глазах.
– Послушайте, – отвечал я, – это несправедливо. Вы не можете обвинять меня в неискренности на том основании, что я вам сказал не все. Есть случаи, когда слово равняется делу, и в таких случаях тайна бывает часто фатальной необходимостью. Но я все-таки вам сказал гораздо более, чем кому-нибудь. А вы? Юлия Николаевна! Решите сами, по совести, руку на сердце: кто из нас двух в долгу по части искренности?
Мы замолчали. Она сидела не шевелясь, с каким-то бесцельным, растерянным взором.
– Не знаю, – сказала она минуту спустя. – Но мне что-то сдается, что я вам сказала сегодня больше, чем должна и чем желала сказать, и уж наверно больше, чем вы заслуживаете.
Я вспомнил ее поцелуй, и мне стало немножко совестно. «Действительно, – думал я, – она права; по этому счету я перед ней кругом в долгу…» Не зная, как ей дать знать, что я это чувствую, я взял ее руку и молча поцеловал. Лицо ее прояснилось.
– Ах, да, – сказала она, – покажите руки. Вы очень их обожгли? Бедняжка! Это моя вина. Я совсем разучилась курить. А прежде, помните?.. И как это весело было тогда: эта цыганщина, эта свобода! Помните наш разговор?
– Помню, от слова до слова.
– О! В самом деле?.. Ну, в таком случае, вы заслуживаете, чтобы я вам сказала. Знаете, я о вас часто потом вспоминала, и… xa! xa! xa! xa! Ну, нет, это уж слишком! И этого я вам ни за что не скажу!
– Как вы испортились!





