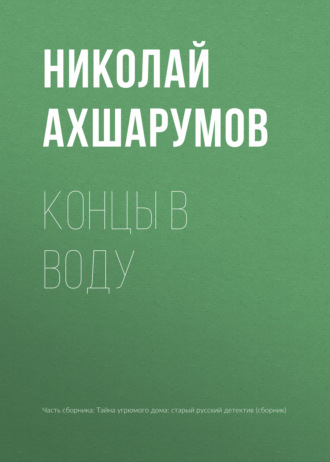
Николай Ахшарумов
Концы в воду
II
Одним из несчастнейших приключений в жизни моей была эта дорожная встреча, а между тем, как случай, она не имела в себе ничего особенного. Кондуктор ночью впустил какого-то господина в купе, где я сидела одна. Господин этот спал, как сурок, несколько станций, потом проснулся, вступил со мной в разговор и, узнав, что я в затруднении по части спокойной квартиры в Москве, предложил мне свои услуги. Мы с ним отправились вместе, нашли какие-то нумера, я почти не видала его. Всего только раз мы сошлись и просидели с ним часа два, курили, шутили и говорили вздор. Ни слова о том, зачем он приехал или зачем я тут, и после этого я его не видала. Самое имя его я узнала случайно. Могла ли я думать, что это будет иметь какие-нибудь последствия? А между тем это-то именно и была ловушка, которую приготовила мне судьба!..
Его звали Черезов. Он служил за границей, в М**, и приезжал на короткий срок. Это был господин лет за тридцать, смуглый, с серьезным лицом и с умными выразительными глазами. Судя по тому, как он вошел в купе и тотчас улегся, я заключила, что не услышу от него ни слова дальше того короткого извинения, которое он мне предложил по-французски. Но я ошиблась. Он был потом очень внимателен и любезен; в Москве, в его нумере, это зашло даже несколько далее, но я была осторожна на этот раз, и все окончилось пустяками.
Три года после того о нем помину не было. Когда я развязалась со Штевичем и вышла за Поля, у меня образовался круг новых знакомств. Но ни малейшей мысли, что я могу его встретить в этом кругу, не приходило мне в голову, как вдруг – это было у Горбичевых, – смотрю: мадам Горбичева подводит ко мне какого-то господина…
– Юлия Николаевна, позвольте мне вас познакомить, если только вы не знакомы уже, Сергей Михайлович Черезов, старый приятель и даже отчасти родня Павла Ивановича.
Что-то знакомое в звуке имени остановило мое внимание на его лице. Смотрю, и лицо как будто знакомо… «Родственник Поля?.. Черезов? – промелькнуло в моем уме. Какой Черезов?.. Ах!» – и я вдруг узнала его… Все это было так неожиданно, что кровь бросилась мне в лицо, и стало вдруг как-то неловко в комнате, как-то не по себе, особенно когда я припомнила обстоятельства, при которых я встретила этого человека. А тут, как нарочно, Горбичева шепнула, что это родня по первой жене. Я не могла себе объяснить хорошенько чувство тревоги, которое охватило меня при мысли, что и он, вероятно, тоже узнал меня, и что он может при всех напомнить мне нашу встречу. Все это черное, что мне удалось так счастливо схоронить и что лежало под спудом, три года не подавая голоса, вдруг шевельнулось и, словно подкравшись, выглянуло из-за угла.
Надо однако отдать ему справедливость: он не сделал и виду, что узнает меня. Держал себя скромно, и раз только за целый вечер обратился ко мне с каким-то пустым вопросом о Поле. Но нервы мои были уже не прежние, и я, не давая себе даже труда дослушать, так струсила, что, думаю, он не мог не заметить. После того мы сказали друг другу несколько слов, и он оставил меня в покое.
Возвращаясь домой от Горбичевых, я чуть не плакала – так у меня вдруг стало на сердце. «Зачем, – думала я, – зачем это случилось?.. Неужели на свете так мало места, что всякий, кого мы когда-нибудь встретили и с кем мимоходом сказали несколько слов, должен потом опять непременно явиться и стать у нас на пути, как человек этот стал теперь на моем, непрошенным гостем, неловким, докучным, опасным свидетелем ненавистного прошлого, которое я и так напрасно стараюсь забыть? Что делать теперь? Надо сказать это Полю». И я сказала.
Услыхав имя, он крепко поморщился.
– Вот черт принес! – проворчал он. – Ты знаешь, кто это?.. Это ее двоюродный брат и наперсник, сердечный друг.
– И твой тоже?
– Мой?.. Да, пожалуй, мы с ним товарищи и на «ты».
Я колебалась. Он ничего не знал еще о дорожной встрече. Сказать или оставить на божью волю? Последнее было рискованно, потому что теперь это могло открыться и мимо меня. К тому же, думала я, мне нужен его совет, да и ему не мешает быть наготове.
– Постой, Поль, – сказала я, видя, что он собирается уходить. – Я забыла тебе сказать: этого Черезова я встретила… прежде, когда он сюда приезжал.
– Встретила?.. Ну, так что ж?
– Погоди, выслушай… Это было в ту пору, когда я ездила в Р** первый раз, на Московской железной дороге, в вагоне, так что мы с ним немножко уже знакомы.
– Как так знакомы?
– Так… мы разговаривали дорогой.
– Ну!
– И стояли в одной гостинице.
– В какой гостинице, где?
– В Москве.
Лицо его вытянулось, и он смотрел на меня в изумлении, как бы недоумевая, что это значит, и ожидая чего-то дальше.
– Ну, – сказал он, видя, что я молчу. – Продолжай, я слушаю. До сих пор все ладно и все как две капли воды на тебя похоже. Связалась дорогою с первым встречным, ехали вместе, стояли вместе… Еще что у вас было вместе?
– Ничего.
– Лжешь! Было!
– Клянусь тебе Богом, нет.
– А почему же ты не сказала об этом в ту пору?
– Я не считала это важным.
– Лжешь!
– Я никогда тебе не лгала.
– Да, это теперь особенно кстати; теперь вот и видно, как ты не лгала. Тьфу! Вот поди, положись на женщину! Петля на шее, каждый шаг рассчитан, а она подхватила прохожего по пути! Мило! Забавно, не правда ли?
Не стану описывать всей этой сцены, потому что она была отвратительна. Расскажу только то, что имело какой-нибудь смысл.
– Славную ты находку сделала! – говорил он, ругаясь и издеваясь. – Ты и сама еще не догадываешься, какую славную, и как это нам с руки… Знаешь, куда он ехал?
– Нет.
– Ну, так я же тебе скажу, чтобы ты могла измерить всю глубину твоего дурачества. Он ехал туда же, куда и ты; ехал к ней в Р**, это теперь несомненно. Я слышал уже давно от кого-то, что он был там около этой поры.
У меня в голове помутилось, и я сидела растерянная. Этого только недоставало!
– Недоставало немногого, – продолжал он. – Недоставало вам вместе туда приехать и погулять там еще сутки-другие.
– Поль!
– Да почему же нет? Молчание. Я утирала глаза.
– Что ж он, узнал? Да полно нюнить, дура!.. Отвечай сию минуту, когда я спрашиваю.
– Не знаю, – отвечала я, – может быть. Но если узнал, то не подал виду.
– Намеков не было?
– Нет.
Он долго сидел, сжимая в ладонях виски, и думал.
– Его нельзя так оставить, – сказал он глухо, и вдруг, обернувшись ко мне, добавил: – Чего вздрогнула? У тебя все одно на уме! Выбрось ты это из головы, пожалуйста. Да не пугайся; я не к тому это сказал. Я говорю только, что его нельзя упускать из виду. Надо его обыскать. Он не может знать много, но он единственный человек на свете, который может знать что-нибудь, и в этом смысле заслуживает внимания.
Дней через пять после этого Черезов был у нас; потом через день обедал и просидел весь вечер. Сделано было, что только возможно, чтобы его задобрить и, как казалось, не без успеха. Но после чаю, когда разговор коснулся этой истории, Поль увел его в кабинет, и я до конца не знала что у них там. Помню только, что когда я вошла, все уже было кончено, и оба они показались мне как-то расстроены, особенно Черезов, который был бледен и молчалив, моргал, ежился, щипал себе бороду и кусал усы. Что касается Поля, то он, напротив, болтал без умолку и казался необычайно весел; только меня это не обмануло. Я видела по их лицам, что дело неладно и что у них было что-то. В первом часу он ушел. Мы проводили его в переднюю, жали руки, заставили дать слово, что он у нас будет часто, как можно чаще и без приглашений, к обеду, когда угодно. Но как только захлопнулась дверь, мы посмотрели друг другу в глаза и кинулись чуть не бегом в кабинет.
Лицо его вдруг осунулось.
– Что это значит? – спросила я.
Он опустился в кресло и молча, растерянным взором, смотрел на меня. Мне стало страшно.
– Поль! Ради Бога, не мучь меня!
– Постой, – отвечал он. – Дай отдохнуть… Я устал, как собака… Дай коньяку.
Я принесла ему коньяку. Прошло минут пять. Сердце мое то билось, как птица в клетке, то замирало. Я не могла дольше вытерпеть.
– Да что такое? Ради Создателя!.. Скажи что-нибудь, хоть слово!
– Скверно! – сказал он. – Садись, я сейчас тебе расскажу. И он рассказал мне, вкратце что между ними произошло. Поль пробовал объяснить ему дело по-своему, рассчитывая, естественно, что это удастся так же легко, как с другими, но он ошибся. Тот выслушал, вспыхнул и отвечал ему наотрез, что это ложь. Но, вслед за тем, он и сам увлекся. Он был раздражен до крайности тем, что называл клеветой, и сгоряча высказал Полю такие вещи, которые перепугали того до смерти. Сказал ему прямо в глаза, что Ольга отравлена, что он был в Р** следом за женщиной, которая приезжала туда в сентябре, слышал от Ольги об этом приезде, знает фальшивое имя, которым приезжая назвалась и… что-то еще. К несчастью, он не сказал, что именно, и это, как Поль говорил мне, хватаясь за голову, «хуже всего!» Но он это понял потом, когда пришел в себя, а в ту пору, я, говорит, сто раз благодарил судьбу, что он не сказал мне больше.
– Была минута, – рассказывал он, весь бледный, – когда я думал, что все пропало. Прибавь он хоть слово лишнее, хоть заикнись, и я не знаю, чем бы это кончилось. Я думал, что с ума сойду, или, недалеко до этого, схвачу его за горло. Но он помямлил и замолк. Не помню, мол, говорила что-то, не обратил внимания. Слышишь?.. Не обратил внимания!
Я слушала, но с трудом понимала. Мне чувствовалось, словно пол подо мною проваливается и стены, качаясь, грозят задавить. Он посмотрел на меня.
– Эге! Да у тебя губы белые! – сказал он. – Это скверно, потому что мне нужно с тобою серьезно потолковать. На, выпей глоток. – Я выпила. – Слушай. Я не верю ему ни на копейку. Он должен знать больше, чем говорит, и это нельзя так оставить. Надо или все сразу выведать, или зажать ему рот, пока не выведали. Главное, чтоб он не болтал; другой беды я покуда не вижу, потому что знаю его. Он мямля и резонер: будет взвешивать и обдумывать целый год, покуда решится на что-нибудь. А чтобы он не болтал покуда, надо ему замазать рот. Я сделаю все, что возможно, со своей стороны. Ты тоже подумай. Смекаешь?
– Нет, – отвечала я.
– Тьфу, как ты некстати тупа! Надо его купить, говорю я тебе, и ты должна с своей стороны помочь мне.
– Чем?
Он топнул ногой.
– А чем ты испортила дело? Из-за чего мы теперь дрожим и хлопочем, когда могли бы и в ус не дуть? В ту пору небось хватило смыслу поставить весь план вверх дном, а теперь, когда предлагают поправить дело, у тебя не хватает ума понять, что всякая институтка поймет с двух слов? Какой ваш первый и последний урок? Чем вы торгуете с тех пор, как вам в первый раз надели длинную юбку, и до тех пор, пока у вас зубы не выпадут? Чем покупаете и за что продаете людей?.. Ну, поняла?
– Поняла.
Он долго смотрел мне в глаза, потом медленно поднял палец и погрозил.
– Только чур, помни, Юшка, не увлекаться!.. Играй какую угодно игру, но будь холодна как лед. Помни, что если ты наглупишь еще, то мы оба за это поплатимся дорого, страшно дорого!
Он замолчал, и мы сидели с минуту в раздумье; потом разговор вернулся мало-помалу к догадкам.
– Что он мог узнать от нее? – спросила я между прочим. Поль отвечал, что это трудно сказать. Может быть, ничего, а может быть больше, чем нужно, чтобы потом связать концы с концами в своей голове.
– Ты думаешь, он догадывается, что это я?
– Весьма вероятно. Но это само по себе еще небольшая беда. Мало ли кому может прийти охота догадываться? Повод прямой: ты вторая жена, стало быть, ты и отправила к черту первую. Это вздор! Важно не то, к чему приводит догадка, а то, откуда она идет, ее основания и источники. Это-то прежде всего и надо узнать.
Мы просидели до свету.
III
Был у Софьи Антоновны. Оказывается, что эта басня насчет беременности и прочем известна здесь многим. Слух пущен был в ход два года тому назад, пожалуй, даже и ранее, ибо это пришло сюда в Петербург из Р**. Это зажало рот всем, кому дорога память несчастной Оли. Мало того, это ввело в сомнение даже таких людей, которые знали и знают отлично сами, что это ложь. Тетушка, например, даже озлилась, когда я у ней спросил: неужели она верит хоть на волос этой сказке? А между тем и у ней на уме есть что-то, какой-то ребяческий страх, так сказать, чтобы из темного уголка как-нибудь, паче чаяния, не выглянули рога и хвост той самой химеры, от которой она так усердно открещивается. По крайней мере, она была очень затруднена, когда я пристал к ней с расспросами, отчего она не сказала мне до сих пор ни слова об этом слухе, и отчего она вообще молчит, она, которая громче и дольше всех кричала, что Ольга отравлена, и чуть не в глаза обвиняла мужа? И это не со вчерашнего дня. Ее письмо с известием о женитьбе Поля – письмо, которое я получил в М**, назад тому уже с год, не содержало в себе почти ничего, кроме имени новой жены; никаких сведений об этой особе, никаких подозрений, намеков. Все, чего я теперь успел от нее добиться, – это что люди злы, что кривой толк плодовит на выдумки и что есть случаи, когда честь семейства повелевает молчать.
Все это, признаюсь, вводит в соблазн и меня. Не то, чтобы я усомнился в Ольге, – это немыслимо, но я начинаю думать, что может быть, в основании этой бессовестной клеветы есть нечто, какое-нибудь первоначальное зернышко правды, из которого она развилась и которое сообщило ей эту силу. Легко могло быть, что Ольга действительно имела когда-нибудь дело с подобною личностью. Для этого нет нужды быть непременно беременною. Мало ли есть недугов, мнимых не менее, чем действительных, на счет которых женщина робкая без крайней необходимости не скажет ни слова своему доктору и, худо ли, хорошо ли, всегда предпочтет совет другой женщины. И женщина эта, раз допустив, что такая была, конечно, могла переехать из Р** куда-нибудь поблизости, после чего нетрудно уже представить себе, что Ольга могла воспользоваться ее случайным прибытием на короткий срок, могла даже выписывать ее по железной дороге, для совещаний. Одно только скверно, трудно остановиться на этом пути догадок и решить, где оканчивается нить трезвой истины и где начинается вымысел.
Третьего дня, только что воротился в седьмом часу и сел пить чай, гляжу – входит Бодягин… В духе, лицо веселое.
– Здравствуй, – говорит, – Сергей Михайлович. Что ж это ты?.. Я думал, дела, с собаками не отыщешь, а он сидит тут дома один! Что не заглянешь? Жена о тебе каждый день спрашивает. Поедем к ней, она тут недалеко, в опере, и я обещал тебя привезти, если поймаю. Брось чай; после, у нас допьешь. Кстати, у меня до тебя есть дело, пустое; пока одеваешься, я тебе расскажу.
У меня мягкий характер на этого рода вещи. Меня можно взять всегда с нахрапу и увезти куда угодно. Стоит только явиться, как он явился, врасплох, и сказать мне решительно: едем.
– Пожалуй, поедем, – отвечал я, не видя действительно никаких причин, почему бы мне не поехать в оперу.
– Вот что, – продолжал он. – У нас по… железной дороге в понедельник собрание, выборы… Нужен директор, знакомый с движением внешней торговли, и я предложил тебя.
– Меня? – сказал я, до крайности удивленный. – С какой стати меня!
– Так… Это мой выбор.
– Да ты разве хозяин?
– Один из сих.
– Но у меня нет акций.
– Так что ж?.. Купи. А не хочешь, и так запишем.
– Нет, – отвечал я. – Спасибо.
– Что ж так?
«Timeo Danaos![23]» – хотел я сказать. Но до таких откровенностей мы не дошли, и я, признаюсь, был в затруднении. Нельзя же сказать человеку в глаза, что я не хочу с ним иметь никакого дела.
– Так, – отвечал я. – Нанюхался уж я ваших компании, довольно с меня.
– Ну, полно чудить! Разве тебе предлагают ехать куда-нибудь в ссылку, поденщиком? Тебе предлагают 5 000 в год просто за то, что ты два раза в неделю подпишешь журнал. Это одно только и обязательно, а остальное все – вздор, не труднее, чем вот теперь прослушать «Дон Жуана». Однако поедем, дорогой успеем договорить.
Я надел фрак, и мы отправились… Дорогою сказано было немного. Он мне заметил, что от таких предложений не отказываются, что это глупо. Я отвечал, что, конечно, глупо, но что я восемь лет кряду вел себя рассудительно и что мне это надоело до тошноты.
– До того, – заключил я, – что мне наконец не терпится сделать какое-нибудь существенное дурачество, чтобы убедиться, что я свободен, что я человек и не утратил высшего изо всех человеческих прав.
– Понятно, – сказал он. – Но в таком случае я бы советовал тебе вот что: выбери, братец, ты дурачество подешевле. Влюбись или женись: это будет почти так же глупо, а между тем 5 000 в кармане.
– Ты полагаешь, что это мне обойдется дешевле?
– Ну это, однако… как возьмешься. Я полагаю, что с некоторым расчетом…
– Черт побери расчет! – перебил я. – Мне опротивел расчет!.. Хочу наконец пожить без расчета хоть год: лезть на стену или лежать на боку, все равно, только бы не думать о том, что я делаю, а главное, чтоб было глупо, ужасно глупо!
Смеясь, мы подъехали и вошли… Финал увертюры звучал в коридорах. Она была в бельэтаже с какою-то чопорною и раздушенною старушкой, которой Бодягин представил меня. Это была Мерк, та самая, которая приняла ее к себе в дом ребенком и воспитала. Потом, говорят, у них вышло что-то, какая-то ссора или семейный скандал, вынудивший старуху сбыть ее на руки первому встречному. У этого встречного Бодягин ее и купил. Но все это было теперь заштопано и имело приличный семейный вид. Бодягина называла ее маман, та говорила Жюли и с мужем ее обходилась как с сыном.
Не прошло и пяти минут, он исчез куда-то, оставив меня одного со своими дамами. Но мне было не до них, сначала по крайней мере: я их не видел, не думал о них. Я был охвачен гением звука и увлечен в мир дивной, чарующей красоты. Это было сперва насильственно. Я окунался в гармонию как в волну и несколько времени жил безотчетно в чем-то чужом, в потоке образов, мыслей и чувств, расплавленных в воздухе, и в форме звука навязанных мне чьею-то могучей рукой. Мало-помалу, однако, то, что казалось сперва насильственным и чужим, нашло отголосок внутри и этим путем закралось в душу. Это минута, вслед за которой сцена с ее актерами и оркестр исчезают для слушающего, исчезают басы и скрипки, и ему чудится, что на сердце его играет кто-то, сердце его поет; сцена внутри, и он видит на ней знакомые лица, слышит родные, милые голоса. Тогда фантазия его вмешивается, и на тему сердечной музыки импровизирует собственную поэму…
Моя поэма, впрочем, была в связи если не с подлинным содержанием драмы, происходившей на сцене, то, по крайней мере, с одним из лучших ее мотивов.
Героиня – сестра донны Анны – такая же чистая, любящая, прекрасная, и так же оскорблена. Сердце ее разбито, но руки крепко схватили руку предателя. «Ты не уйдешь!.. Non sperar se non m'uccidi, ch'io ti lascio!»[24] Только в моей поэме развязка проще. Он понял, что с нею нечего больше делать, и кончил разом.
– Не правда ли, как смешон этот жених, всегда опаздывающий? – шепчет мне кто-то на ухо… Тени исчезли, и я очнулся. Передо мной и слегка наклонясь ко мне сидела живая, полная силы женщина. На ней было бордовое бархатное платье, в волосах крупная нитка жемчуга. Грудь, руки и плечи Юноны. Она сидела так близко, что я мог чувствовать на щеке ее дыхание. С ее лица веяло прямо в мое лицо огнем затаенной страсти. Я что-то сказал, она отвечала усмешкой и взглядом. Не могу объяснить, что, собственно, было в этой усмешке и в этом взгляде; но я почувствовал вдруг всем существом своим, что эта женщина тянет меня к себе.
Антракт. В ложу вошел какой-то юноша, родственник или питомец «маман», потому что она обратилась к нему с материнской улыбкой. Мы вышли с Бодягиной в коридор, из коридора в фойе.
– Что вы так пасмурны? – спросила она.
Я ей сказал, что опера производит на меня тяжелое впечатление.
– Как странно! А на меня напротив!
Я отвечал, что это совсем не странно. Это как жизнь: для безучастных свидетелей это комедия, а для того, кто всею душою в игре, может быть совершенно напротив.
– Но тут почти сплошь комедия… Все эти люди смешны. Дон Жуан, и жена его, и лакей. А этот несчастный жених! И эта невеста, которая, кажется, так разгневана, а между тем не пускает его от себя! Зачем она не пускает? Это смешно!
– Нет, ужасно! Это фатальная сила минуты, связавшей ее с человеком, которого она должна ненавидеть и презирать.
– Вы думаете? Мне кажется, что она, напротив, любит его.
– Может быть… Но это еще ужаснее.
– Отчего? – сказала она, очевидно, не понимая. – Он грешник, но очень мил. Разве нельзя любить грешника? Или, может быть, вас надо спросить об этом иначе? Ну, я скажу, пожалуй: грешницу и даже большую, но…
– Привлекательную?
– Ну, разумеется.
Я посмотрел ей в лицо. На нем было что-то невыразимо странное. Она шутила, а между тем под шуткою шевелилось что-то другое, словно она боялась втайне того, с чем она заигрывает.
– Знаете, – говорю, – это вопрос, который гораздо труднее верно поставить, чем верно решить.
На этот раз она мне призналась прямо, что не понимает.
– Я бы желала, чтоб вы объяснили это, – сказала она. – Но я боюсь, что мы не успеем.
– Успеем… это не так хитро, как кажется… Грехи, согласитесь, трудно любить, особенно некоторые, но грешницу – это другое дело. Вопрос весь в том: насколько эти две вещи связаны – грешница то есть, или, пожалуй, грешник – с своим грехом. Потому что грехи бывают часто случайные и очень нередко вынужденные. Вы понимаете?
– Понимаю.
– Но вы понимаете: если по списку их числится, в одной Испании, тысячи, то это выходит уже серьезно.
– Я думаю! – отвечала она, смеясь.
– К тому же, Дон Жуан не просто развратник; он, кроме того, и убийца.
– Ну, это случай… Его принудили… Впрочем, конечно, он виноват, но и она сделала тоже большую глупость. Зачем она не пускала его?
Кто-то к ней подошел и раскланялся. Сказали по паре слов. Она заметила, что «пора, сию минуту начнут», но не успели мы отойти, как она воротила меня.
– Постойте, поговоримте еще. Вы не сказали мне ничего о вашем собственном впечатлении.
– Что вам сказать, Юлия Николаевна? Это серьезно. Вслушайтесь в некоторые места аккомпанемента, и вы поймете, что тут невесело. Сквозь звуки пира тут слышится адский хохот и скрежет зубов. Да иначе оно и быть не может. Человек, от которого столько любящих, верных сердец ожидало счастья и который на все наплевал, все опозорил, всем дал вместо пищи камень, если еще не хуже, – такой человек, как он ни храбрится снаружи, не может быть в глубине души спокоен и весел. В сердце его – потому что и у него, я полагаю, есть сердце, – в сердце его глухо грызет, что-то шепчет, что он сам для себя устроил ад. И этот ад, покуда еще незримый, уж слышен. На песню, в которой звучат слова любви, он отвечает хохотом ненависти, презрения и проклятия. Она отвернулась.
– Пойдемте, – сказала она, – пора.
В коридоре, у ложи, мы встретили целое общество, которое окружило ее, как царицу. Я не вдруг понял, что это значит и каким образом все это очутилось тут. Оказалось, что это свита Бодягина, сопровождающая его повсюду. Она состояла из разного рода бонтонной челяди[25] того сорта, что трется около золотых мешков, челяди, знавшей всегда чутьем, где его следует ожидать. Первое, что я услыхал, имело весь вид официального бюллетеня о том, куда Павел Иванович исчез и по какому случаю; второе – было известие, что он будет сию минуту и с кем. Мы были уж в ложе и слушали второй акт, когда он вошел, но свита, должно быть, дождалась его за дверьми, потому что я встретил ее потом, почти всю, у него за ужином.
– Ах, Боже мой! Да у вас целый двор! – шепнул я Бодягиной по-французски.
– Да, – отвечала она с самодовольной усмешкой, – это довольно скучно.
Странное впечатление производит эта женщина, особенно когда нервы настроены, как они были настроены у меня в этот вечер. Это не светлое действие красоты, а томительная отрава проклятой страсти, бесовская прелесть, которая кружит голову и тянет в себя как в бездну!
Обед, потом опять опера; после оперы ужин; утренние визиты, вечерние; записки его руки и ее. Зовут, и я прихожу, сам не могу понять, зачем и как это делается. Мне скверно у них, и я возвращаюсь домой расстроенный, ночи потом не сплю, а между тем не могу отказаться, иду. Что-то слепое тянет меня к ним в дом, и вот уж с неделю, как я у них почти каждый день. Сказал бы, что становлюсь домашним, если бы у них и без меня не было целого легиона других домашних людей, между которыми я совершенно чужой, в кругу которых я плаваю, не сливаясь, сосредоточенный весь в себе, как капля масла в воде. Это какой-то новый и не вполне сформированный мир жизни и деятельности. Конторы, правления, обширная переписка и целые штаты служащих по всем концам России, целые сети связей, интриг, спекуляций, искательств и других отношений, но центра нет или, вернее сказать, есть несколько центров неровной и очень непостоянной силы, вокруг которых все это группируется и кружится. Я, впрочем, стою вне сферы их действия и не чувствую к ним никакой аттракции[26]. Меня тянет в другую сторону. Мне нужно ее. Вопрос: что такое она? – крепко интересует меня, и я изучаю ее то вблизи, то издали, смотря по тому, как позволит толпа, ее окружающая. К несчастью, я не могу заняться этим как следует, то есть обдуманно и спокойно. Я изучаю ее на собственный риск и страх как медик, который пробует на себе гашиш или опиум, или как зоолог, который взял в руки змею неизвестной породы. Мне любопытно и страшно, и еще что-то, что может быть хуже всего. Бывают минуты, с глазу на глаз с нею, когда меня охватывает огнем, после чего я чувствую, словно вся кровь у меня отравлена каким-то незримым, но жгучим ядом. Тогда мне становится дурно, и я проклинаю ее, готов все бросить, готов бежать от нее без оглядки, как от чумы.
Она неглупа, в обыденном смысле, но у нее нет нравственного понятия. Ей надо доказывать и объяснять по пальцам такие вещи, которые развитой ребенок пятнадцати лет поймет с двух слов. Так, например, по поводу этого разговора в антракте, который у нас возобновился потом раза два, она с трудом поняла, о каком еще аде я говорю, кроме того, в который Дон Жуан проваливается фактически; и хотя она прямо не признавалась, что статуя, черти и прочее действуют на нее гораздо сильнее музыки, но я догадываюсь, что это так. Когда я сказал ей, что это только орнаменты, а подлинный ад и ужас в душе, она не спорила, но я весьма сомневаюсь, чтобы она это поняла как следует.
– Вы спрашиваете, – сказала она между прочим, – неужели я не в силах представить себе мучений хуже физических? Но что я знаю об этом, и как я могу представить себе что-нибудь хуже того, чего я не испытала? Да и вы тоже. Вы не горели не только в вечном, но и в простом огне. Почем же вы знаете, каково это и есть ли на свете что-нибудь хуже?
Вопрос, впрочем, сам по себе неглуп; но за ним чувствуется что-то непроходимое… Потемки… чаща… Вглядываешься и, не видя пути, припоминаешь с каким-то странным чувством первые строки «Ада»[27]
На склоне юности моей, отягощенный сном,
Путь истинный я потерял и, в поисках напрасных,
Забрел в дремучий лес. О, как скажу, сколь тяжек был
Скитальцу этот лес пустынный и угрюмый…





