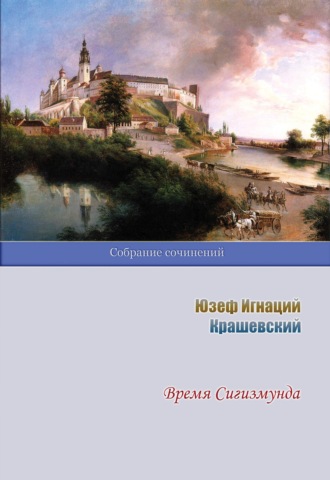
Юзеф Игнаций Крашевский
Время Сигизмунда
V
Братство милосердия
В толпе, которая в эти минуты через все отверстия живо начала отплывать из дома и разливаться по улице, Мацек, окружённый студентами, товарищами, несомый этой волной, подошёл к воротам. Но тут почувствовал, что его схватили за руку, и голос, от которого он вздрогнул, шепнул ему на ухо:
– Подожди.
Живей, чем когда-либо, Мацек обернулся, заметил жещину, которая, взяв его за епанчу, потянула назад, внимательно оглядываясь, смотрит ли кто-нибудь.
Эта женщина была немолодая, высокого роста, с загорелым лицом, с чёрными глазами, худая, но крепко сложенная. Её одежда показывала бедность и доказывала, что опустилась до нищенского хлеба. Тёмный потёртый платок, наброшенный на голову, подвязанный небрежно под шеей, спадал ей на плечи, серая сермяга, подпоясанная ремнём с латунной пряжкой, покрывала плечи. У пояса висели чётки с крестом и медальоном. В руке имела палку, отпалированную руками, сучковатую; через плечо – торбу, которую обременял кусочек хлеба, на верёвке с другой стороны ремня была кружка.
На некогда красивом лице, и теперь полном выражения, можно было прочесть презрительную гордость, болезненное уныние, грусть и беспокойство. Чёрные брови нахмурились и покрыли морщинами лоб, глаза покраснели, верхняя губа конвульсивно дрожала, а в её голосе было сдерживаемое рыдание. Когда, потихоньку хватая Мацка за руку, она проговорила: «Подожди!» – казалось, что рыданием докончила слово. Сирота также остановился, как ошарашенный, и, уставив на неё удивлённые глаза, воскликнул: «Ты тут! Ты тут!»
Она, ничего на это не отвечая, взволнованная, беспокойная, поглядывала на отплывающую толпу, словно дожидаясь, чтобы разошлась и оставила их одних.
Затем кампсор Хахнгольд, сошедший с галереи, на которой смотрел битву петухов, казалось, собирался направиться к Мацку, и, заметив женщину, пристально уставил на неё глаза. Увидев это, она немного отошла, а еврей подошёл к Мацку, что-то бормоча под носом.
– Ну, как же вы тут справляетесь? – спросил он не спеша Мацка.
– Как все, ни с чем особенным я не столкнулся, записался в школу, учусь и прошу милостыню.
При этом последнем слове кампсор пренебрежительно сам себе усмехнулся и бросил на жака взгляд непостижимого выражения.
– А почему не заглянете ко мне?
– Зачем мне к вам? – спросил Мацек.
– Хотя бы за милостыней, – сказал еврей, гладя бороду. – Ведь, хоть я не вашей веры, у меня убогий убогим, сирота сиротой! Сирота, – проговорил он с особым акцентом и уставил глаза в мальчика.
– Благодарю вас за добрые желания, но пусть это будет на последнюю помощь в беде.
– Ведь эти жаки часто ко мне приходят.
– Я ещё города и горожан не знаю.
– В этом вам Урвис покажет, он знает, где я живу. Я бы хотел с вами поговорить, я вам желаю добра.
Жак что-то невразумительно буркнул, а еврей, заметив, что пан Чурило всматривается в него издалека и следит за разговором, неохотно ушёл.
На протяжение всего этого разговора женщина, стоявшая в стороне, нетерпеливо дёргала висящие на поясе чётки, а, увидев, что кампсор уходит, подошла к Мацку снова.
Он также уже искал её глазами.
Договорившись немым взглядом, они вышли на улицу и нищенка, схватив сироту за руку, потянула за собой в один из тех тёмных, тесных проходов, которыми изобиловали старые города, построенные не по плану.
Эта улочка никуда не вела, была закрыта, как двор, заострённым готическим фасадом дома, окружена несколькоэтажными каменицами и в эти минуы совсем пустая. Протянутые от окна к окну верёвки удерживали сохнущее бельё, перепёлки и щеглы щебетали в клетках на окнах и иногда только прерывал глухую тишину стук тяжёлой двери или шум, доходящий с прилегающего рынка.
Женщина, обернувшись во все стороны, начала обнимать и целовать жака с материнской нежностью, со слезами, со стоном радости.
Он стоял молча, но был взволнован и беспокоен.
– Каким образом вы здесь, Агата? Каким образом вы в Кракове?
– О, мой милый, не спрашивай меня об этом! – воскликнула нищенка, заломив руки. – Бог меня привёл за тобой прямо сюда, спасибо Ему, что мне хватило сил на долгое, тяжёлое путешествие, что могла тебя увидеть и буду охранять тебя. О! Ты не знаешь, как я боялась за тебя! Сирота! Один! Такое долгое путешествие, никакой опеки! Просить милостыню! Тебе было нужно просить милостыню!
– Ангел-хранитель меня вёл; видите, я дошёл счастливо и живётся мне лучше, чем я мог надеяться. Но вы, Агата, в этом возрасте, покинули дом, кровных, спокойную крышу…
– Я должна была, дитя моё! Должна! Благодарение Богу, что вдохновил меня на эту мысль и отвагу дал! И как я боялась за тебя!
– Зачем было обо мне бояться?
– Дай Боже, чтобы ты никогда не знал о том.
Женщина вздохнула и села, уставшая, на каменную лестницу ближайшего дома, опёршись на руки. Через минуту она отняла руки от лица, залитого слезами, и, притянув к себе мальчика, снова начала его целовать и обнимать, бормоча:
– Я тебя кормила собственной грудью, я привязалась к тебе как мать, а ты спрашиваешь, почему я бежала за тобой следом сюда. Бедное дитя, ты ещё ни себя, ни своей доли не понимаешь. И так тебе лучше.
– Моя Агата, – сказал жак, – скажи же ту великую тайну, которую мне так давно обещаешь. Дай же я узнаю, кто я, что мне угрожает; мне уже немало лет, я не ребёнок, я тебя пойму, а сумею сохранить тайну.
– Не спеши спрашивать! Лучше тебе о том не знать, – тихо отвечала нищенка, – чем позже узнаешь, тем лучше для тебя. Это тайна слёз, не спрашивай меня о ней, однако, ты её узнаешь. Но скажи мне, скажи, – прибавила она живо, – тут, в Кракове, никто тебя не расспрашивал, не зацеплял, не старался приблизиться к тебе?
– Конечно, Агата, конечно… Я молился ещё и плакал, увидев издалека Краков, когда мне уже незнакомые люди милосердием и милостыней начали приветствовать. Я принял это за доброе предзнаменование. Какая-то женщина, горожанка, дала мне сыр и кусочек хлеба, сразу потом получил милостыню от незнакомого шляхтича, которого сегодня встретил, и снова он меня одарил, а что больше, давал какие-то предостережния.
– Кто же он? Кто такой? – живо спросила женщина. – Молодой? Старый?
– Старый, седеющий. Русин, кажется, его называют Чурило.
Женщина сказала себе:
– Теперь я знаю.
– А ещё? – спросила она. – Больше никто тебя не спрашивал?
– Еврей, которого вы видели и которого мне шляхтич велел остерегаться.
– Остерегайся его, дитя моё, остерегайся, прошу. Что он тебе говорил теперь?
– Велел мне прийти к нему.
– Не ходи к нему, не ходи к нему! – добавила она живо. – Избегай его.
И, говоря себе, она встала:
– Они ему уже заплатили, они поджидают сироту! Бедный ребёнок!
– Кто они, Агата?
– О! Не спрашивай меня, не спрашивай! Но слушай. Ты знаешь, что сюда я пришла к тебе, чтобы присматривать за моим ребёнком, которому поклялась быть матерью. И останусь в Кракове, чтобы тебя оберегать.
– От кого, Агата?
– О! Не спрашивай, не спрашивай… Если с тобой приключится что-нибудь плохое, если тебе будут нужны совет или помощь, приходи ко мне, приходи. Я буду сидеть у костёла Девы Марии.
– Просить милостыню?
– Да, просить милостыню, дитя моё, для тебя и за себя. Найдёшь у меня помощь, найдёшь хлеб, найдёшь грош всегда. Мне так немного нужно, а ты так молод. Ты не пачкайся, прося на хлеб, будешь его иметь от меня, будь спокоен! Будет он у тебя, хотя бы мне пришлось красть!
Последние слова она выговорила с экзальтацией, схватила палку и хотела уходить.
Мацек её задержал.
– Разве я мог бы жить твоей работой! Но я в этом не нуждаюсь; верь мне, Агата, люди тут честные и песнь жака скорее молитвы выпросит хлеб и еду.
– Но я не хочу, чтобы ты попрошайничал!
– Мы так все живём.
– Все пусть так живут, но не ты.
– Чем я их лучше?
Женщина хотела, кажется, что-то поведать, потом задумалась, смешалась и отошла на несколько шагов.
– Подождите, ещё слово, слово… Агата!
– Завтра, завтра! Найдёшь меня у ворот Девы Марии, а теперь должна спешить.
– Может, вам нужны деньги, – сказал, подбегая к удаляющейся, жак, – вот, что мне дал Чурило, возьмите, возьмите.
– Я! От тебя? Да что ты! Благодарю! Я не имела бы совести!
И она вырвалась от него, желая уйти.
Затем в тихой улочке послышался глухой шум, шелест шагов несколько спешивших особ. Никого, однако, видно не было, когда вдруг из тесного переулка между двумя высокими каменицами вырвалось несколько нищих, направляясь к уходившей Агате.
Впереди шёл огромный, плечистый мужлан, с голой, обросшей чёрными волосами грудью, с растрёпанной головой, обёрнутой грязной тряпкой, с палкой в одной руке, длинным бичом в другой. Кусок гранатового сукна, завязанного под шеей, спадал ему на спину. Рваные ботинки, привязанные лыком и верёвками к израненным ногам, покрывали стопу неполностью. На жилистой шее, которую частично заслоняли волосы головы и бороды, висел оловянный медальон с Богородицей. Суровое морщинистое лицо, чёрное от солнца и ветра, покрасневшее на щеках и у глаз, светило белками, которые чёрным глазам прибавляли блеска и разбойничьего выражения. Торбы, свесающие с плеч, крест с чётками у пояса говорили о деде из-под костёла. Если бы не это, по лицу, по огромной фигуре и блеску чёрных глаз можно его было принять за разбойника.
За ним шёл, как бы наперекор, низкий, горбатый, с искревлённой к плечу головой, чересчур большой и совсем лысой, другой нищий с палкой. Поставленные один к другому, они казались один выше, а другой ещё чудовищно меньше, чем были в действительности.
Горбун также держал в руке бич, и хотя он опирался на палку, живо подскакивал за идущим большими шагами гигантом. Сгорбленная баба в гранатовой епанче, с горшочком у пояса, шла за ними, а дальше ещё несколько дедов.
Женщина беспокойно указывала пальцем на Агату и кричала своим:
– Это она! Это она!
– Стой! Стой! – зарычал гигант, махая бичом.
– Подожди, бродяга! – тонко повторил горбун.
И оба, подскочив к Агате, которая, поначалу бросившись наутёк, потом остановилась, подумав, сама подошла к преследователям. Мацек задержался и шёл за ней.
– Иди себе, иди! – отпихивая его, воскликнула Агата. – Иди!
– Но они…
– Не бойся за меня, возвращайся, иди…
Жак, которого отпихнули, остановился в стороне.
Тем временем два нищих схватили женщину и лысый горбун безжалостно хлестал её бичом.
– Кто ты? – спросил, всматриваясь в неё, сморщившийся огомный дед.
– Кто ты? – повторил горбатый.
– Кто ты? – воскликнули все, обступая её вокруг, так, чтобы не дать ей убежать.
– Вы всё-таки видите, кто я, – смело отвечала Агата, – если бы не была тем, чем есть, не клянчила бы на улицах.
– А кто тебе позволил клянчить на нашем месте?
– А у кого бедный должен брать разрешение клянчить?
– Посмотрите! Притворяется невинной, – проговорил лысый. – Чёрт её не взял, о языке во рту не забыла!
– Разве не знаете, приблуда этакая, что в столице и всё-таки в каждом честном городе, более того, и в деревне, руки вытягивать нельзя, пока не скажешь управлению. Разве вы на ярмарке, или что, где каждый проходимец – пан? Если бы вы притащились в деревню, и там на паперти не сесть, не познакомившись со своими и не поклонившись приходскому священнику, а вы тут думаете свободно из-под носа хлеб наш забирать, не кивнув никому головой.
– Поглядите на неё! – закричали все.
– В гостиницу, к братству, – добавили другие, живо двигаясь. – Осудить, обобрать и, отшлёпав, вон из города.
– Хорошо тому, кто всю жизнь попрошайничал, – смело ответила Агата, – потому что знает, какие у вас там законы, а для меня это вещь новая.
– О! Ты готова поклясться, что ходила по сию пору в золоте? – сказал лысый.
– В золоте, не в золоте, но, наверное, не в лохмотьях.
– На тебе! А теперь, верно, какое-то несчастье, – добросил он, смеясь и поднимая плётку. – Муженёк её помер, которого никогда не имела, или имущество потеряла, невидимое. Ха! Ха!
Мацек бросился защищать женщину, но она его отпихнула.
– Иди себе, иди, я справлюсь с ними, – шепнула она, – будь за меня спокоен, иди, заклинаю, и будь спокоен; найдёшь меня, где я тебе обещала.
Жак отступил, но не ушёл.
– Ну, ну, моя королева! В гостиницу, – воскликнули нищие, – в гостиницу. Пусть Братство осудит. Достаточно нас тут и без тебя, что собираем милостыню, а каждый день их ещё наплывает со всего света. Но, славая Богу, есть на то закон и плётка.
– Почему не явилась в гостиницу, прибыв в Краков?
– А кто знает вашу гостиницу и обычаи?
– Тем хуже тебе, что не знаешь о них.
– Ну, дальше! Двигай!
Огромный дед, которого свои звали Лагусом, замахнулся бичом на Агату, а иные, окружив её, повели, крича, за собой.
Дёргая и толкая, вытянули Агату на рынок, миновали костёл Св. Марии, повернули в тыльную часть и узкой грязной улочкой поспешили к низким воротам одноэтажной каменицы, стоящей недалеко от построек прихода. Несколько старых деревьев свешивали ветви, убранные высохшими листьями, над крышей, покрытой зелёным мхом и травами, посередине которой высовывалась закопчённая потрескавшаяся труба, местами показывающая живые кирпичи и остатки штукатурки. В толстой стене этого дома неправильно чернели несколько неодинаковой величины продымлённых окон, укреплённых деревянной и железной решёткой.
Одна дверь, сводчатая, низкая, испачканная руками, облепленная грязью, с выступающим порогом, отворялась посередине. Рядом с ней, между дверью и окном, висела, натянутая на две палки, смытая дождями, бледная картина, некогда представляющая Лазаря с перевязанной головой, лежащего на гнойном ложе, которому собаки лизали ноги. Немного выше вытягивало руки деревянное чёрное распятие. Над окованной копилкой, вставленной в стену, раньше была надпись, теперь полностью стёртая.
Все внутренние комнаты были из толстых неоштукатуренных стен, низких и сводчатых. Красные кирпичи, покрытые копотью, приняли цвета грустные и мрачные. Местами испачканная белая штукатурка светила только остатками прошлой краски. Тёмные сени делили гостиницу на две части.
Справа и слева отворялись две малоосвещённые комнаты, из которых левая, значительно больше и приличней, служила местом сходки так называемого Братства Милосердия, то есть сборища нищих, вписанных в официальный реестр.
Справа была комната баб и дедов из-под костёла Девы Марии, имеющих преимущество среди сброда.
Комната с левой стороны, освещённая двумя низкими окнами, из-за толстой стены мало впускающими света, имела по кругу дубовые лавки, а посередине стол, у двери – чёрную печь, окружённую вылепленным из глины сидением. У стены в глубине был шкаф, закрытый на несколько замков, на котором три креста и буквы C. B. M. виднелись издалека.
Тут Лагус, хлестая бичом Агату, окружённый всё увеличивающейся толпой нищих, гнал её, ругаясь и толкая, чтобы поспешила.
Женщина, покрасневшая от гнева, шла живо, кутаясь в своё одеяние и потихоньку бросая проклятия.
Они вошли, наконец, в дверь и ввалились без порядка в тёмную комнату сходок.
– Чего хотите от меня? – воскликнула Агата, останавливаясь посередине. – Если вам можно попрошайничать в Кракове, можно и мне.
– Вот в том-то и дело, что нет! – закричал, вылезая из угла седой старец, седящий там над книжкой, убранный в серый гермак, кожаный ремень и чётки у ремня, с крестом на шее, висящими на чёрной верёвке.
– Вот в том то и дело, что нет! – повторили за ним все, с уважением расступаясь.
– Пусть пан писарь судит и скажет, что нам делать с этой негодницей. С каждым днём этих бродяг тут всё больше, так что настоящим нищим кусочка хлеба вскоре не хватит.
И Лагус вместе с лысым горбуном, которого звали Хелпа, ударили её бичами. Агата крикнула и бросилась к тому, которого называли писарем, как бы взывая к его помощи.
– Прочь, бичовники! Прочь! – сказал писарь. – Я её расспрошу.
И, повернувшись к столу, он важно сел, собираясь scrutinium, а деды расступились и сели на лавки, под печью, окружая издалека Агату. Лагус и Хелпа встали с обеих сторон обвиняемой с бичами, словно готовые к порке.
– Почему, – сказал писарь, – прибыв в Краков, ты не представилась правительству?
– Какому правительству? – спросила женщина.
– Нашему. Ты должна знать, что не только в Кракове, но и во Львове, и Вильне, и во всех больших городах есть Братства Нищенствующих, в книги которых нужно вписываться, чтобы иметь право руку под костёлом вытянуть.
– Я не знала об этом, – отвечала женщина.
– Как ты могла об этом не знать, – закричал Лагус, – когда и на деревне не только нищий, но даже пилигримы и кающиеся, идущие в святые города, должны объявлять о себе пробощам и иметь свидетельства с печатью от своего начальства, чтобы спокойно просить милостыню в государстве?
– Я не знала об этом, – повторила женщина, – а это потому, что первый раз в жизни попрошайничаю и что пришла прямо с Руси, где не спрашивают бедных, откуда и что делать, чтобы иметь милостыню, ибо Господь наш Иисус Христос не приказал следить за убогими и спрашивать, а помогать.
– Ну! Ну! Довольно этого, – сказал писарь. – Ты знаешь теперь, что нельзя тебе просить милостыню без позволения Братства. Покажи бумаги.
– Нет никаких.
– Отхлестать и выгнать, – воскликнули все.
– Тихо! – крикнул писарь, стуча по столу. – Откуда ты?
И, сказав это, он стал всматриваться ей в глаза, поднялся, лицо его выражало удивление, провёл рукой по глазам, потёр лоб, сел, задумался.
– Из Руси, я говорила вам, и тем более вы должны поверить, что брат Гроньский мог бы вспомнить ту, которая стоит перед ним.
Писарь остолбенел, все смотрели на женщину и шептали.
– Этого быть не может! И откуда вы? – воскликнул писарь Гроньский. – Этого быть не может! Вы! В этом одеянии, у нищих?
– А у вас, брат Гроньский, была ли судьба лучше? Не помните весёлых лет?
Старый писарь вздохнул и, как бы отталкивая навязчивые воспоминания, обратился к женщине:
– Что было, то было; но как же вы дошли?
– Беда лучше гонит, чем ваши бичёвники и хуже них хлестает, – произнесла женщина, – хоть и у них мало милосердия к своей братии!
– Таков закон, – сказал тихо писарь, – что хотите! Каждый должен сначала вписаться, прежде чем мы позволим ему сесть под костёлом. Это делается для нашего спокойствия и безопасности, чтобы бродяги, ведьмы, разбойники и поджигатели не спрятались среди нас и не вредили бы всему Братству. Также каждый из нас, сколько нас тут видите, имеет на назначенный костёл и улицу, за границу которой, кроме некоторых дней, выйти не может. И даже в домах просить милостыню нельзя, кроме Дня Всех святых, Дня поминовения усопших и Пасхи. Такой это закон!
– Впишите меня в своё Братство, – сказала Агата, – и позвольте сидеть у Девы Марии.
– У Девы Марии! – воскликнул лысый горбун. – Хо! Хо! А как вы пронюхали, где лучше! Это место нас, старших, какой-нибудь бродяга не может сесть перед заслуженными. Мы там сидим. Поблагодарите, если вам на Клепаре или Казимире назначат костёльчик, и не думайте тут нам закон писать.
– Брат Гроньский, – сказала женщина, – вы это сделаете для меня.
– Пан писарь тут не король, а закон старше него, – произнёс Лагус, – которого переступать не годиться.
– А какой же это закон?
– Кто самым последним приходит, занимает оставшиеся места, поблагодарите, когда вас из города палками и бичами не выгоним.
Агата пожала плечами. Писарь спустя минуту раздумья пошёл к шкафу, отцепил ключи, отворил его и достал книгу, начал быстро переворачивать страницы, потом громко воскликнул:
– Принимаете её в Братство?
– Нет! Нет! – воскликнули все. – Выгнать из города, отхлестать. Неизвестно, кто такая!
– Я её знаю, – сказал Гроньский, – перед моим паломничеством в Рим и Кампостели я видел её на Руси. Я ручаюсь за неё.
– Да воздаст вам Бог, брат Гроньский!
– Пусть идёт, куда хочет! Нас тут и так достаточно, – воскликнули Лагус и Хелпа, – и, небось, за то, чтобы вписаться, ей нечем заплатить.
– За вписывание заплатить? – воскликнула удивлённая Агата. – А много?
Деды и бабы покрутили головами.
– Десять грошей в копилку Братства за умершие души и которым не откуда ждать спасения, и для Братства, и калекам и больным, на…
Агата начала искать под платьем узелок и развязывать его.
– И позвольте мне сесть подле Девы Марии.
– Но это быть ни в коей мере не может, потому что это место старших, – сказал сам писарь тихо.
– Я больше за вписывание заплачу, а позже…
– Болтушка! – кричали другие. – Этого быть не может.
Агата неведомо откуда, потому что не из узла, достала, блестящую золотую бляшку и, поднимая её пальцами вверх, воскликнула:
– Столько дам за вписывание.
Писарь нетерпеливо стянул губы, а деды стояли в недоумении.
– Если ей золото ничего не стоит, – сказал Лагус, – видно, имеет возможность приобретать его! Ведьма! Ведьма! Врачиха какая-то! Не хотим ни денег, ни её! Отхлестать!
– Я ручаюсь за эту женщину, – сказал писарь.
Лагус покрутил головой.
– Как хотите, ручайтесь, не ручайтесь, а помните, чтобы из этого худа не было.
– У Девы Марии? – спросила Агата.
– Садись, где хоччешь, – воскликнул Лагус, – только не подле меня, чтобы дьявол, который тебя задушит, ко мне не прицепился.
Агата бросила золотую бляху на стол и стояла, ожидая. Писарь перевернул страницу, поднял голову и спросил:
– Агата?
– Пишите: Агата Русинка.
– И добавьте, – сказал горбун, – Ювелирша, это будет её крестное имя в Братстве.
Агата грустно улыбнулась.
– А раз вы счастливо вписались, – сказал грубовато Лагус, – пусть же пан писарь прочтёт вам права, чтобы вы их придерживались, потому что для этого выбраны мы, старшие, и названы бичёвниками, чтобы закон наш бичом охранять.
Только кончился этот обряд и писарь отступил немного в сторону, шепча что-то Агате, когда с башни костёла Девы Марии зазвонили колокола и деды спешно начали рассеиваться.
Остались только писарь Гроньский и Агата.







