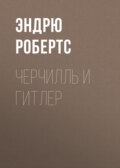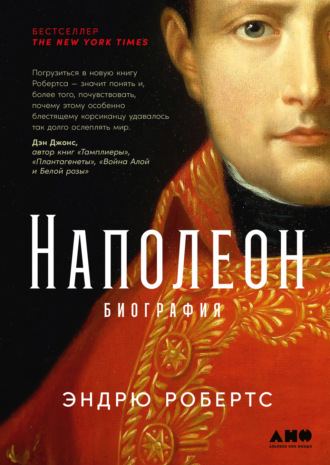
Эндрю Робертс
Наполеон: биография
19 июля в Вардане, по дороге в Каир, Жюно подтвердил то, о чем уже подозревал Наполеон: у Жозефины роман с Ипполитом Шарлем. (Хотя Жозеф Бонапарт давно знал об этом, он, по-видимому, ничего не сказал брату во время ее «допроса».) Жюно показал Наполеону письмо (мы не знаем отправителя, но известно, что почту в армию после высадки не доставляли) и прибавил, что о неверности его жены болтают в Париже{549}. Загадка, почему Жюно выбрал для разговора с Наполеоном именно это время и место. Шарль подшутил над ним, приклеив его саблю к ножнам, но это случилось несколькими месяцами ранее.
«Моя семейная жизнь потерпела крушение, все завесы упали, – написал Наполеон Жозефу шесть дней спустя. – Для меня только ты остался на этой земле. У меня остается только твоя дружба; если и ты меня предашь, я стану мизантропом… Печально в одном-единственном сердце держать все эти чувства к одному человеку. Ты понимаешь меня!»{550} Это письмо (местами оно напоминает прощальное письмо Клиссона к Эжени) по пути во Францию перехватили англичане. Его фрагменты были опубликованы, но не в таком объеме, чтобы прояснить, что имел в виду Наполеон{551}.
Бурьенн утверждает, что Наполеон после возвращения во Францию собирался развестись с Жозефиной. Наполеон снова написал Жозефу: «Пожалуйста, постарайся приготовить для меня жилье в деревне, когда я приеду, – неподалеку от Парижа или в Бургундии. Я собираюсь остаться там на зиму. Я так устал от людей! Мне необходимы одиночество и уединение, величие мне повредило, чувства увяли»{552}. Ни одно письмо Наполеона Жозефине времен Египетского похода не сохранилось, и некоторые историки считают, что они утрачены или уничтожены, но гораздо вероятнее, что он просто не писал ей. Следующее из уцелевших писем датировано 11 мая 1800 года. Теперь Наполеон обращался к Жозефине сдержаннее: «Моя подруга» (ma bonne amie){553}.
К объяснимому смущению Наполеона, английское правительство опубликовало перехваченную корреспонденцию за 1798–1800 годы. Чтобы подчеркнуть «несчастья и неприятности» (по ехидному выражению редакторов) французской армии, англичане напечатали письма, кроме прочих, самого Наполеона, Луи Бонапарта, Тальена, Бурьенна, Деженетт-Дюфриша, Мену, Буайе, Дюма, Брюйе и Ласалля. (Последний – возможно, самый лихой гусар в армии – жаловался матери, что из-за «полнейшего отсутствия пудры и помады» у него выпадают волосы{554}.) В письмах друзьям, семьям и любовницам они не скрывали своей озабоченности и все как один, кроме Наполеона, желали поскорее вернуться домой из «мерзкой» (по выражению некоторых) страны. Собрание включало письма Наполеона с жалобами Жозефу на распутство Жозефины (хотя это едва ли составляло государственную тайну) и письма Жозефине Евгения Богарне, «выражавшего надежду, что его дорогая мама не настолько грешна, как ее изображают». Контр-адмирал Жан-Батист Перрэ, командующий Нильской флотилией, рассказывал другу: «Беи оставили нам нескольких хорошеньких девиц – армянок и грузинок, и мы конфисковали их в пользу нации»{555}.
21 июля вернулся Мурад-бей. В этот раз он привел с собой в город Эмбабу на левом берегу Нила 6000 мамлюков и арабские нерегулярные части (54 000 воинов, многие верхом){556}. Отсюда была хорошо видна находившаяся почти в 15 километрах пирамида Хеопса в Гизе – до XX века самое высокое в мире сооружение, и Наполеон упомянул о ней перед сражением в приказе по войскам: «Солдаты! Вы пришли в эти края, чтобы вырвать их из варварства, принести цивилизацию на Восток и спасти эту прекрасную часть света от ярма Англии. Готовьтесь к бою. Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид»[62]{557}. Впоследствии Наполеон часто повторял, что «из когда-либо его впечатлившего сильнее всего восхитили египетские пирамиды и рост великана Фриона [самого высокого из французов]»{558}. Упоминание об англичанах (не рассчитывавших ни вмешиваться в дела Египта, ни извлечь из этой страны какую-либо пользу) просто выдумка, но войска, очевидно, ее приняли.
Наполеон построил 20 000 солдат в пять дивизионных каре с артиллерией по углам. Внутри каре встали обоз, кавалерия и ученые. Французы утолили жажду на бахче и приготовились драться. Они знали, что если направят штыки в головы мамлюкских лошадей, то, по словам одного офицера, «лошадь встанет на дыбы и сбросит своего седока»{559}. Первыми мамлюки напали на дивизии Дезе и Ренье, и те, по словам Буайе, «стойко их встретили и всего с десяти шагов открыли беглый огонь… Затем они напали на дивизию Бона, встретившую их таким же образом. В общем, после нескольких безуспешных попыток они удрали»{560}. Битва у пирамид длилась два часа. Жан-Пьер Догро, адъютант Доммартена, в походе вел дневник и записал в тот день, что множество мамлюков «бросилось в Нил. Стрельба по тысячам торчавших над водой голов продолжалась длительное время. Мы взяли всю их артиллерию. Неприятельские потери значительны»{561}.
Многие из трехсот погибших французов были убиты не мамлюками, а огнем соседних каре. Мамлюки потеряли 20 орудий, 400 верблюдов, все припасы и весь обоз. Поскольку мамлюки имели обыкновение носить в поясе все свое золото, даже один ограбленный труп мог обогатить солдата. После боя торжествующие французы отмеряли золотые монеты полными шляпами. «Наши храбрые солдаты были сполна вознаграждены за перенесенные невзгоды» – так выразился Бертье в докладе военному министерству, напечатанном в Le Moniteur. Египтяне прозвали Наполеона «султаном Кебиром» («повелителем огня»). Мурад-бей скрылся в Верхнем Египте, Дезе бросился вдогонку. После одной из побед Дезе в верховьях Нила из реки вылавливали тела утонувших мамлюков.
Через день после сражения Наполеон вошел в Каир – город с 600-тысячным населением, равный по площади Парижу и, несомненно, крупнейший в Африке. Устроив свою ставку в доме Мухаммед-бея Эльфи на площади Эзбекия, Наполеон незамедлительно приступил к реформам. В каждом из шестнадцати каирских районов из уважаемых местных жителей были составлены диваны (советы), которые отправляли своих представителей в Большой диван, где председательствовал профранцузски настроенный шейх аль-Шаркауи. Наполеон передал диванам некоторые судебные и административные полномочия, надеясь, что в перспективе они «приобщат египетскую знать к идеям собраний и государственного управления». Его встречи с Большим диваном, по-видимому, не были скучными: один мусульманский историк отметил, что Наполеон был «с собравшимися весел, дружелюбен и часто шутил с ними»{562}. Он организовал почтовую службу, освещение и уборку улиц, пассажирское сообщение между Каиром и Александрией, монетный двор и разумную налоговую систему с меньшей, чем непомерные требования мамлюков, нагрузкой на феллахов. Кроме того, Наполеон отменил феодальные порядки и облек властью диваны, основал новую французскую торговую компанию, построил современные чумные госпитали и выпустил первые в Египте печатные книги (на трех языках). Все эти нововведения он предпринял исключительно по собственной инициативе: связи с Директорией у него не было.
Александр Македонский, захвативший Египет в 332 году до н. э., посетил храм Амона в оазисе Сива, чтобы посоветоваться со знаменитым оракулом. Наполеон считал это «великим политическим ходом»: «Это дало ему возможность завоевать Египет»{563}. Поскольку Египет с VII века был мусульманской страной, Наполеон посчитал уместным следовать исламу в той мере, в какой возможно, но он никогда не заходил настолько далеко, как «этот глупец» Мену, который, женившись на египтянке, принял ислам и взял имя Абдалла. (Мармон спрашивал Мену, не «собирается ли тот, во исполнение обычаев страны», практиковать многоженство. Мену дал понять, что нет{564}.) Когда два десятилетия спустя Наполеона спросили, действительно ли он принял ислам, император со смехом ответил: «Война – вот религия солдата; я никогда ее не менял. Все остальное – дело женщин и священников. Что касается меня, то я всегда принимаю религию той страны, в которой нахожусь»{565}.
Наполеон уважал ислам, приписывая Корану значение «не только религиозное, но и общественное и политическое. Библия лишь содержит нравоучения»{566}. Его также впечатлило, что мусульмане «за пятнадцать лет отвратили от ложных богов больше душ, опрокинули больше идолов, разобрали больше языческих капищ, чем последователи Моисея и Христа за пятнадцать веков»[63]{567}. Наполеон не имел ничего против многоженства. Он говорил, что египтяне – сластолюбцы (gourmands en amour) и, когда это позволено, «предпочитают иметь жен разных цветов»[64]{568}. Его заигрывание с улемами (богословами и законоведами), беседы о Коране и разговоры об обращении в ислам (а также попытки произвести на шейхов впечатление успехами французской науки) свидетельствуют о желании опереться на египтян-коллаборационистов, и эти попытки привели к неоднозначному результату. Церемонии и приветствия, следование французами мусульманским обычаям ни в малейшей степени не помешали султану Селиму III объявить им в Египте священную войну.
Наполеон часто шутил о том, насколько близко он подошел к обращению в ислам. На острове Эльба он «смешно описывал» члену английского парламента свои богословские диспуты с имамами и то, как он получил, «после многих встреч и глубокомысленных бесед в Каире, разрешения не подвергаться обрезанию и пить вино, при условии совершения после каждого глотка благочестивых поступков»{569}. Наполеон говорил, что после освобождения от обрезания он согласился оплатить возведение мечети (учитывая обстоятельства, это невеликая жертва){570}. Этот эпизод оброс подробностями, и историки, внимательно изучая такие рассказы, находят в них преувеличения и объявляют Наполеона неисправимым лжецом. Но кто ради эффекта не приукрасил бы хорошую историю?
Конечно, было много и настоящей лжи – в распространяемых в Египте пропагандистских листках Наполеона, напоминающих продукцию времен Итальянского похода. Le Publiciste сообщал, что копты поют гимны в честь «нового Александра»{571}. Издаваемая для армии газета Courrier de l’Egypte утверждала, что Наполеон «близок к тому, чтобы о нем заговорили как о преемнике Мухаммеда»{572}. В одном из приказов по войскам дословно приводилась его беседа с тремя имамами (одного из них звали Мухаммед) после того, как Наполеон поднялся на пирамиду Хеопса и осмотрел Сфинкса (нос которого, вопреки легенде, не был отбит ядрами французских пушек). Даже из самого короткого фрагмента видно, что это не совсем сатира:
БОНАПАРТ. Хвала Аллаху! Кто был халиф, открывший эту пирамиду и потревоживший прах мертвых?
МУХАММЕД. Считается, что это аль-Мамун, повелитель правоверных… Другие утверждают, что это сделал прославленный Гарун аль-Рашид [живший в IX веке багдадский халиф], искавший сокровища; но он нашел только мумии.
БОНАПАРТ. Хлеб, украденный нечестивыми, наполняет рот камнями.
МУХАММЕД (кланяется). Это мудрое наблюдение.
БОНАПАРТ. Хвала Аллаху! Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммед – его пророк, а я – среди его друзей…
СУЛЕЙМАН. Приветствую и тебя, непобедимый генерал, любимец Мухаммеда!
БОНАПАРТ. Муфтий! Я благодарю вас. Коран услаждает мой ум… Я люблю пророка и собираюсь посетить и почтить его могилу в священном городе. Но сначала мне предстоит истребить мамлюков.
ИБРАГИМ. Пусть ангелы победы отряхнут пыль с твоего пути и укроют тебя своими крыльями… О храбрейший из сынов Исы [Иисуса]! Вослед за тобой шествует, по воле Аллаха, ангел разрушения, чтобы избавить египетскую землю{573}.
Было еще много подобного. Наполеон упомянул, например, о «великом султане, нашем союзнике, которого Аллах овеял славой». Сам султан Селим III (в то время он собирал две армии, чтобы изгнать французов из Египта) удивился бы этому заявлению. Затем Наполеон по памяти процитировал слова пророка Мухаммеда («за ночь прошедшего все небеса») и заявил, что «горе, втройне горе тем, кто ищет непрочных сокровищ, тем, кто жаждет золота и серебра, напоминающих пыль»{574}.
Наполеон наслаждался представлением, как, вероятно, и имамы, но это была серьезная попытка заручиться поддержкой египтян. Один из имамов, Сулейман, напомнил, что Наполеон обошелся с папой римским «снисходительно и с добротой», и тот возразил, что его святейшество ошибается, утверждая, будто мусульмане обречены на вечные муки. Чтение Корана, по словам Наполеона, привело его к убеждению, что «воля Мухаммеда» свершится, если египтяне помогут французам уничтожить мамлюков, что пророк одобрял «торговлю с “франками”» и поддерживал их усилия достичь Брамы (то есть Индии), был не против устройства в портах Египта французских баз и явно хотел, чтобы египтяне «изгнали пришедших с Альбиона островитян, презреннейших среди сынов Исы». Взамен Наполеон пообещал: «Вы будете вознаграждены дружбой “франков”, а после вознесетесь на седьмое небо и воссядете среди чернооких гурий, вечно юных и вечно девственных»{575}.
Хронисты Абдуррахман ал-Джабарти, Хасан аль-Аттар и Никула ат-Турк – важнейшие среди арабов свидетели французской оккупации. Ал-Джабарти считал приход Наполеона Божьей карой, посланной Египту за отход от мусульманских установлений. Он видел во французах новых крестоносцев, но не скрывал восхищения вооружением пришельцев, их военной тактикой, успехами медицины и наук, проявляемым ими интересом к истории, географии и культуре Египта. Ал-Джабарти с удовольствием общался с французскими учеными. Его впечатлила скромность Наполеона, а также то, что во время поездки в Суэц вместо поваров и гарема его сопровождали инженеры и мусульманские купцы. При всем этом Ал-Джабарти считал Наполеона хищным, хитрым, безбожным зверем и с радостью воспринял известие о джихаде{576}.
Революционный принцип равенства противоречил Корану, но ал-Джабарти признавал, что французы хорошо обращаются с местными жителями, работающими на их стройках, и с интересом следил за химическими и электрическими опытами. Его не радовало, что французские солдаты не торгуются на базаре (он объяснял это желанием втереться египтянам в доверие), и сильно раздражало, что французы-зимми, неверные, вопреки мусульманским законам позволяли «ничтожнейшим коптам, сирийским и православным христианам и евреям» ездить верхом и носить сабли{577}.
Хасан аль-Аттар, друг ал-Джабарти, напротив, так боялся, что его примут за коллаборациониста, что наотрез отказывался от приглашений французских ученых осмотреть лаборатории и библиотеку. Никула ат-Турк описывал Наполеона как человека «низкого роста, худотелого и бледного; его правая рука длиннее левой, сам же он мудр и удачлив»{578}. (Неизвестно, был ли он прав относительно длины Бонапартовых конечностей.) Ат-Турк прибавил, что многие мусульмане признали в Наполеоне Махди («ведомого Аллахом», «того, кто управляет правильно»), призванного исправить ислам, и так решило бы еще больше людей, надень он восточный костюм вместо западного. Это удивительная оплошность. Наполеон лишь однажды надел тюрбан и шаровары, и это вызвало у штабных офицеров смех. Спустя много лет он напомнил супруге своего придворного, что протестант Генрих IV считал обращение в католичество стоящим французского престола: «Не думаете ли вы, что Восточная империя и, возможно, подчинение всей Азии не стоят тюрбана и шаровар?» И прибавил, что армия, «вне всяких сомнений, поддержала бы эту шутку»{579}.
Наполеона приятно удивили здоровый климат и плодородие примыкающих к Нилу районов, но не впечатлили их «бестолковые, жалкие и тупоумные» жители. В донесении Директории он отозвался о каирцах, которых знал к тому времени всего один день, как о «самых отвратительных в мире людях» (не уточняя, в чем дело). В сельской местности царило невежество: «Они предпочтут получить от наших солдат пуговицу вместо шестифранкового экю. В деревнях не имеют представления даже о том, что такое ножницы»{580}. Его поразило, что во всей стране нет водяных мельниц и имеется лишь одна ветряная, так что зерно приходилось молоть жерновами, приводимыми в движение скотом. Солдаты возненавидели Египет, поскольку, в отличие от Италии, там не было (как он позднее выразился) «вина, вилок и графинь, с которыми можно спать»{581}. (Наполеон говорил о местном вине. В декабре он приказал Мармону распродать 64 000 пинт привезенного из Франции вина: «Убедитесь, что продаете лишь то вино, которое, как кажется, испортится»{582}.)
Приехав в Каир, Наполеон отправил адмиралу Брюйе приказ вести флот к Корфу, где он окажется в большей безопасности и откуда сможет угрожать Стамбулу. Но когда гонец добрался до Абукирского залива, флота уже не существовало: 1 августа адмирал Нельсон предпринял исключительно дерзкое нападение. Брюйе погиб в 22 часа при взрыве «L’Orient». Два линейных корабля погибли (в том числе «L’Orient»), еще девять англичане захватили. Спастись удалось лишь четырем французским кораблям под командованием контр-адмирала Пьера де Вильнёва. Простояв две недели у Абукира и установив пристальное наблюдение за египетским побережьем, Нельсон (он получил ранение в лоб и теперь лечился) отбыл в Неаполь. «Если в этом ужасном случае он и допустил ошибки, – великодушно высказался Наполеон впоследствии о Брюйе, – то он искупил их своей славной смертью»{583}.
«Я остро чувствую ваше горе, – заверил он вдову Брюйе в сердечном письме. – Мгновение, разделяющее нас с предметом нашей любви, ужасно; оно отрывает нас от земли; оно насылает на наше тело конвульсии агонии. Свойства души разрушаются: она остается связанной с внешним миром лишь через ощущение искажающего реальность кошмара»{584}. Миновал всего месяц после того, как он узнал о неверности Жозефины, и можно представить, что он вспоминал ее тогда. Рапорт, отправленный Директории, прозаичнее, причем Наполеон привычно исказил потери: погибло «незначительное» число французов, 800 ранено. В действительности погибло 2000, было ранено 1100 (потери англичан: 218 убитых и 678 раненых){585}.
«Похоже, вам нравится эта страна, – заявил Наполеон офицерам своего штаба за завтраком 15 августа, наутро после получения новостей, – и это очень хорошо, ведь флота, который вернул бы нас в Европу, больше нет»{586}. Теперь, когда армия оказалась отрезанной от Франции, абукирская катастрофа поставила Наполеона, кроме всего прочего, перед проблемой нехватки наличных денег: взятая у мальтийцев «контрибуция» (около 60 млн франков) утонула вместе с «L’Orient». Впрочем, он отказался признать «эту неудачу» намеком на то, что фортуна от него отвернулась. «Она еще не оставила нас, это далеко не так, – заверил он Директорию. – Всю эту кампанию она благоволила нам больше, чем когда-либо прежде»{587}. Наполеон даже сказал Клеберу, что катастрофа может принести пользу, ведь англичане вынудили его задуматься о походе в Индию: «Возможно, они заставят нас сделать вещи более великие, чем мы предполагали»{588}.
Притом что Наполеон делал все, что мог, для завоевания симпатий местного населения, он дал понять, что неповиновения не потерпит. 1 августа Наполеон в письме Бертье (одном из восьми в тот день) потребовал примерно наказать мятежный Даманхур, в том числе обезглавить пятерых виднейших горожан (и по крайней мере один из них должен быть правоведом). Но наказанию, как правило, сопутствовало поощрение.
Когда Наполеон узнал, что имамы Каира, Розетты и других городов не намерены в этом году праздновать день рождения пророка Мухаммеда – якобы из-за безденежья и политической нестабильности, но на самом деле чтобы показать правоверным, будто (по словам Виван-Денона) французы «препятствуют совершению одного из самых священных обрядов их культа», – он настоял, чтобы все оплатила армия, пусть и из своей пустеющей казны{589}. Торжества начались 20 августа и продолжались три дня. Город был иллюминован цветными фонариками на шестах. Устраивались процессии к мечетям, представления с дрессированными медведями и обезьянами. Звучала музыка, декламировались стихи. Фокусники заставляли исчезать живых змей. Демонстрировались красочные изображения могилы пророка в Медине. Откровенность танцев, исполненных танцорами-мужчинами, привела в замешательство даже Виван-Денона – автора эротического романа. В день рождения пророка французская артиллерия салютовала, для толпы играли полковые оркестры, а офицеры [штаба] нанесли визит Саиду Халилю аль-Бакри, которого Наполеон решил объявить старшим из потомков Мухаммеда. На празднике – по этому случаю французам позволили пить вино – сто священнослужителей объявили Наполеона под именем Али-Бонапарт зятем пророка. Египтяне подшучивали над ним, он – над египтянами. Французский офицер вспоминал: «Солдаты вели себя сдержанно; возвратившись в казармы, они потешались над этой комедией»{590}.
В последний день торжеств Наполеон учредил Египетский институт (Institut d’Égypte). Пост президента получил Монж, а сам Бонапарт стал вице-президентом. Бывший дворец Касим-бея в пригороде Каира оказался достаточно просторен, чтобы вместить институтскую библиотеку, лаборатории, девять мастерских, собрание древностей и зверинец. В помещении гарема теперь проходили математические семинары. Заведующим мастерскими назначили начальника воздухоплавательного подразделения Никола Конта, с поручением изготовлять, кроме прочего, запасные части для ветряных мельниц, часов и печатного станка. После побед Дезе в Верхнем Египте предназначенные для Лувра памятники и ценности повезли в Каир, Розетту и Александрию, чтобы отправить их во Францию, как только прибудут корабли.
Институт был разделен на четыре секции: математическую, политической экономии, физическую, литературы и искусств. Совместные заседания устраивались каждые пять дней. На церемонии открытия [23 августа] Наполеон предложил к рассмотрению сугубо практические вопросы: «Могут ли быть улучшены употребляемые при армии хлебопекарные печи в смысле расхода топлива и каким образом; есть ли в Египте способы заменить чем-нибудь хмель при пивоварении; какие применяются способы для очистки и освежения нильской воды; что выгоднее при имеющем место положении дел в Каире: построить ветряную или водяную мельницу; имеются ли в Египте средства для выделки пороха и какие именно; каково состояние в Египте юриспруденции, порядка гражданского и уголовного судопроизводства и народного образования»[65]. Наполеон, кроме того, настаивал, чтобы ученые, издававшие журнал La Décade Égyptienne, разъясняли египтянам достоинства колесной тачки и ручной пилы. Впрочем, занятия и дискуссии ученых не были целиком связаны с торговлей и колонизацией: изучение египетской флоры и фауны, древностей, минералов и миражей имело невысокую практическую ценность.
С помощью науки и разума, орудий Просвещения, Наполеон пытался расположить к себе египтян. Он даже предложил построить обсерваторию{591}. Французы вовсю пытались поразить египтян демонстрацией возможностей печатного станка, медицинских инструментов, оптических приборов, часов, электричества, воздушных шаров, другими современными чудесами, и ал-Джабарти охотно признавал, что они «смущают ум», но ничто из перечисленного, похоже, не помогло им в политическом отношении. (Когда Бертолле показывал в институте химический опыт, один шейх [аль-Бакри] поинтересовался, может ли француз устроить так, чтобы тот оказался одновременно в Египте и в Марокко. Бертолле лишь пожал плечами, и шейх заключил: «А если так, то никакой ты не волшебник»{592}.)
В день открытия института Наполеон написал Талейрану (ему, по мнению Наполеона, должно было польстить поручение ехать в Стамбул), что вскоре Египет сможет экспортировать в Турцию рис и защищать паломников по пути в Мекку[66]. В тот же самый день он отправил в Палестину полковника Жозефа Бовуазона, старшего офицера своего штаба, с заданием начать переговоры с Ахмедом Джеззар-пашой, восставшим против турок хозяином Акры и врагом мамлюков. Джеззар-паша, по прозвищу Мясник, обожал калечить и расчленять людей, а также изобретал жуткие пытки, например прибивал к ногам жертв лошадиные подковы, заживо хоронил христиан и сдирал с проворовавшихся чиновников кожу перед тем, как их зарубить{593}. Он, казнивший семь своих жен, любил вырезать из бумаги цветы и дарить их гостям. Теперь, когда Ибрагим-бея с его мамлюками изгнали из Египта в Газу, Наполеон рассчитывал совместно с Джеззар-пашой покончить с ним. Правитель Акры отказался принять французского посланника (Бовуазону повезло: иногда Джеззар-паша отрубал голову гонцам) и заключил мир с турками.
Наполеон собирался, окончательно подчинив Египет, вернуться во Францию, но 8 сентября написал Директории (как и всю остальную его корреспонденцию, это письмо пришлось доставить в Париж так, чтобы в Средиземном море оно не попало в руки англичан): «Вероятно, в октябре я не смогу вернуться в Париж, как обещал, но задержка составит всего несколько месяцев. Здесь все в порядке; страна усмирена и привыкает к нам. Остальное, конечно, дело времени»{594}. Здесь он снова вводит Директорию в заблуждение: страна определенно не «привыкала» к новым правителям. В большей части его переписки речь идет о взятии заложников, обезглавливании и сожжении деревень – о том, к чему французы прибегали для того, чтобы упрочить свое положение[67]. Наполеон, однако, был доволен тем, как его солдаты были одеты и сколько денег получали, и в письме Баррасу утверждал, что все, чего недостает, – это театральной труппы для увеселения войск{595}.
20 октября Наполеон узнал, что турки собирают в Сирии армию, чтобы напасть на Египет. Необходимо было выступить против нее, но накануне с минаретов по всему Каиру раздался призыв к восстанию против французов, и к утру почти весь город был охвачен мятежом. Каирского коменданта генерала Доминика-Мартена Дюпюи закололи копьем на улице. Сулковский погиб вместе с пятнадцатью телохранителями Наполеона, их тела были брошены собакам{596}. (Из восьми отправившихся в Египет адъютантов Наполеона погибло четверо и получили ранения двое, в том числе его пасынок Евгений Богарне при осаде Акры.) На Ниле восставшие утопили несколько судов. Всего погибло около 300 французов (а не 53, о которых Наполеон доложил Директории){597}. Мятежники устроили штаб в мечети аль-Азхар, одной из крупнейших в городе. Распространившийся по городу слух – будто убит не Дюпюи, а сам Наполеон – разжег страсти почти так же, как это удалось улемам. Поэтому Наполеон, по воспоминанию Бурьенна, «тотчас сев на лошадь, в сопровождении только тридцати конных егерей отправился во все опасные места, восстановил уверенность и с большим присутствием духа принял меры к обороне»{598}.
Важнее всего Наполеону было удержать каирскую цитадель со стенами трехметровой толщины, тогда, как и сейчас, господствующую над городом. Отсюда, из цитадели, Доммартен 36 часов обстреливал врага из 8-фунтовых орудий. Не колеблясь, он выпустил 15 зарядов и по мечети аль-Азхар, которую затем пехота взяла штурмом и осквернила. Погибло более 2500 мятежников. Другие были казнены впоследствии в цитадели. Много лет спустя художник Пьер-Нарсис Герен изобразил Наполеона прощающим мятежников, но на самом деле он очень долго этого не делал{599}. Наполеон приказал обезглавить мятежников, захваченных с оружием в руках, а их тела бросить в Нил. Плывущие трупы должны были устрашить египтян, а отрубленные головы сложили в мешки, отвезли на мулах в центр Каира, на площадь Эзбекия, и оставили там{600}. «Я не в состоянии описать ужас, – вспоминал очевидец, – но, должен признать, это помогло надолго обеспечить порядок»{601}. 27 октября Наполеон писал Ренье: «Ежевечерне мы отрубаем по тридцать голов». Лавалетт писал, что начальник египетской полиции «никогда не выезжал без палача. Малейшее нарушение законов каралось битьем по пяткам». Удары по пяткам (бастонада) чрезвычайно болезненны оттого, что на подошвах множество нервных окончаний, сухожилий и мелких костей. Это наказание применялось даже к женщинам{602}. Из-за этих суровых мер каирские обыватели (кроме фанатиков) не поднялись вместе против французов, которые не сумели бы привести к повиновению 600 000 человек. 11 ноября, когда восстание закончилось, Наполеон отменил битье по пяткам при допросе. «Варварский обычай избиения людей, заподозренных в обладании важными сведениями, должен быть искоренен, – писал он Бертье. – Пытка не дает ничего стоящего. Бедолаги говорят все, что, как им кажется, хочет услышать допросчик»{603}.
К 30 ноября положение дел в Каире почти вернулось к нормальному, и Наполеон разрешил открыть увеселительный сад «Тиволи». Там он заметил «исключительно хорошенькую и бойкую молодую женщину» по имени Полина Фуре, двадцатилетнюю жену Жана-Ноэля Фуре, лейтенанта 22-го конно-егерского полка{604}. (Если считать верным описание современников, упоминавших о ее круглом красивом личике и длинных светлых волосах, то решение лейтенанта Фуре взять жену в поход вряд ли можно счесть разумным.) Прошло полгода после того, как Наполеон узнал о неверности Жозефины, и всего через несколько дней после знакомства Полина стала его любовницей. Эта связь приобрела оттенок фарса, когда Наполеон отослал лейтенанта Фуре с якобы важными депешами в Париж (такое путешествие обычно занимало три месяца), но уже на следующий день корабль был перехвачен английским фрегатом «Lion». Вместо того чтобы задержать Фуре, англичане позволили ему вернуться в Александрию (так иногда поступали с незначительными лицами). Он объявился в Каире на десять недель раньше срока и нашел свою жену, которую прозвали Клеопатрой, обустроившейся по соседству с занимаемым Наполеоном дворцом Мухаммед-бея Эльфи{605}.
По одной версии, лейтенант Фуре в ярости выплеснул графин воды на ее платье. По другой версии, он хлестал жену кнутом до крови{606}. Как бы то ни было, супруги развелись, и Полина стала официальной фавориткой (maîtresse-en-titre) Наполеона. Она играла роль хозяйки на его каирских обедах и сопровождала в карете в поездках по городу и окрестностям. (В этом случае глубоко опечаленного Евгения Богарне освобождали от его обязанностей.) Связь с Полиной избавила Наполеона от звания рогоносца – обвинения для французского полководца того времени гораздо более серьезного, чем прелюбодеяние. Покидая Египет, Наполеон вверил Полину попечению Жюно, а тот, раненный на дуэли, возвращаясь искалеченным во Францию, оставил ее Клеберу. Впоследствии Полина сделала состояние, торгуя бразильским лесом. Она носила мужское платье и курила трубку, вернулась в Париж с домашними попугаями и обезьянками и дожила до 90 лет{607}.
Решению Наполеона выступить в Сирийский поход (французы не вступали на территорию современной Сирии, действуя в границах нынешних сектора Газы, Израиля и Западного берега реки Иордан) предшествовала угроза Джеззар-паше, переданная 19 ноября: «Если ты продолжишь давать пристанище Ибрагим-бею у рубежей Египта, я расценю это как знак вражды и пойду на Акру»{608}. Джеззар-паша ответил на это захватом в начале декабря турецких провинций Газы, Рамлы и Яффы. Он утвердился в Эль-Арише, всего в 35 километрах от форта Наполеона в оазисе Катия, на краю Синайской пустыни, и объявил, что намерен очистить Египет от французов.