
Эмиль Золя
Чрево Парижа. Радость жизни
Émile Zola
LE VENTRE DE PARIS. LA JOIE DE VIVRE
Перевод с французского Александры Линдегрен под редакцией Марка Эйхенгольца, Дмитрия Усова
Иллюстрации французских художников конца XIX – начала XX века («Чрево Парижа») и художника Андрея Николаева («Радость жизни»)
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© Д. С. Усов (наследник), перевод, 1957
© А. В. Николаев (наследник), иллюстрации, 2024
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Иностранка®
* * *
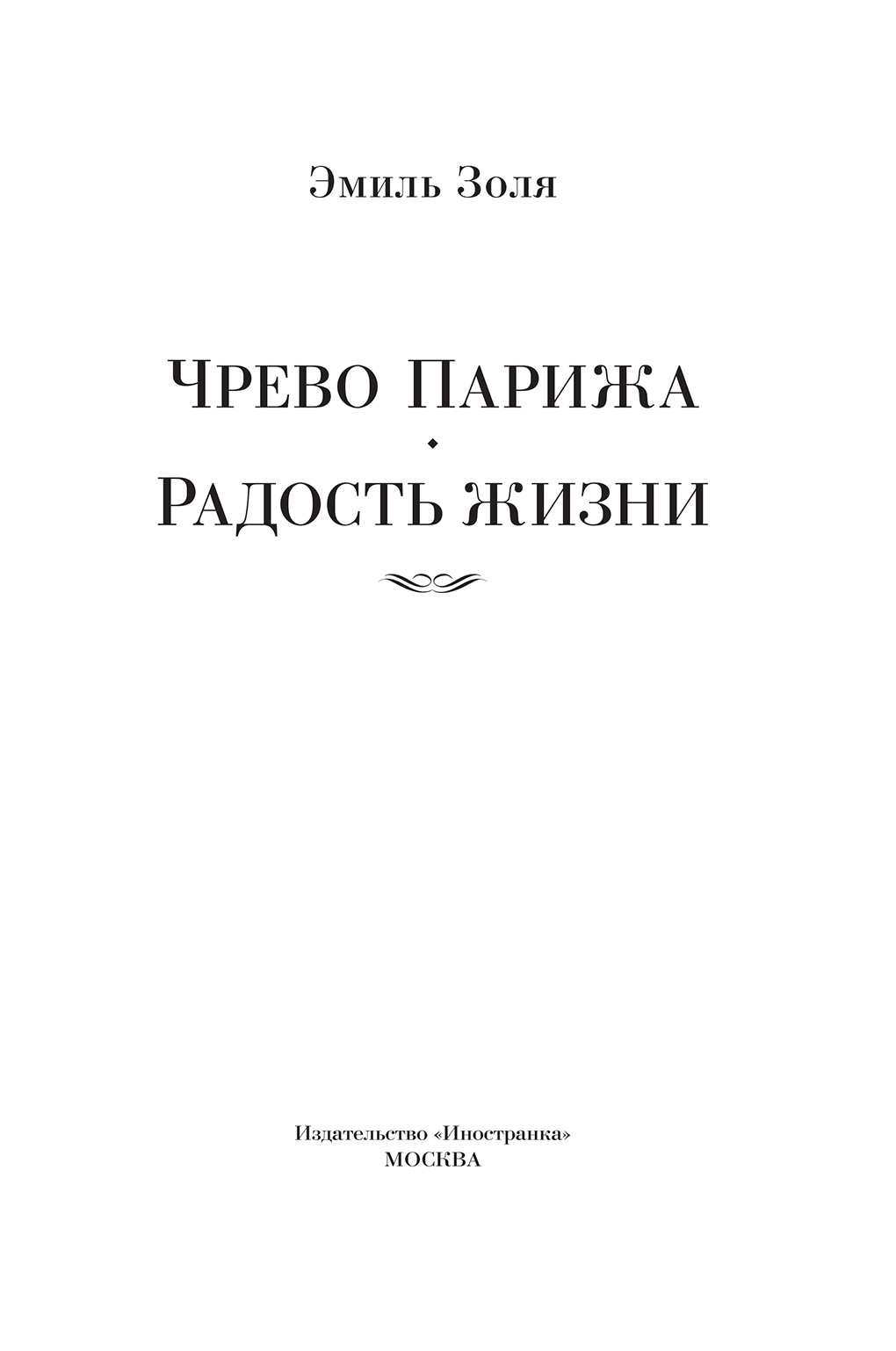
О порядке чтения цикла «Ругон-Маккары»
Работа над романами цикла «Ругон-Маккары» заняла у Эмиля Золя больше двадцати лет и не происходила линейно: за вычетом хронологически первого и последнего романов, созданных, соответственно, первым и последним, порядок появления частей цикла не всегда соответствовал хронологии описываемых событий. Традиционно цикл издается в порядке написания, однако в этом и дальнейших изданиях мы предпочли руководствоваться его внутренней хронологией. Такой порядок чтения сам автор описывает в финальном романе цикла «Доктор Паскаль» и, по утверждению Эрнеста Альфреда Визетелли, английского переводчика и друга Золя (см. критическую биографию Émile Zola, Novelist and Reformer: An Account of His Life and Work by Ernest Alfred Vizetelly, 1904, гл. XI), неоднократно рекомендовал на словах.
Карьера Ругонов (La Fortune des Rougon, 1871)
Его превосходительство Эжен Ругон (Son Excellence Eugène Rougon, 1876)
Добыча (La Curée, 1871–1872)
Деньги (L’Argent, 1891)
Мечта (Le Rêve, 1888)
Покорение Плассана (La Conquête de Plassans, 1874)
Пена (Pot-Bouille, 1882)
Дамское Счастье (Au Bonheur des Dames, 1883)
Проступок аббата Муре (La Faute de l’abbé Mouret, 1875)
Страница любви (Une page d’amour, 1878)
Чрево Парижа (Le Ventre de Paris, 1873)
Радость жизни (La Joie de vivre, 1884)
Западня (L’Assommoir, 1877)
Творчество (L’Œuvre, 1886)
Человек-зверь (La Bête humaine, 1890)
Жерминаль (Germinal, 1885)
Нана (Nana, 1880)
Земля (La Terre, 1887)
Разгром (La Débâcle, 1892)
Доктор Паскаль (Le Docteur Pascal, 1893)
Чрево Парижа
Иллюстрации французских художников конца XIX – начала XX в.
I
В глубокой тишине пустынного шоссе повозки огородников поднимались к Парижу под ритмичный стук колес, который отдавался гулким эхом, отражаясь от фасадов домов, дремавших по обеим сторонам дороги за неясными очертаниями вязов. На мосту Нейльи к спускавшимся из Нантера восьми возам с репой и морковью присоединились повозка с капустой и повозка с горохом. Лошади шли без понукания, понурив голову, размеренным, ленивым шагом, который еще более замедлялся подъемом. Вверху, растянувшись плашмя на овощах и не выпуская из рук вожжей, дремали зеленщики, укрытые плащами в мелкую серую с черным полоску. Временами, выступая из мрака, газовый фонарь освещал то гвозди башмаков, то синий рукав блузы, то край фуражки, мелькавшие среди пышного цветника красных пучков моркови, белых пучков репы, густой зелени капусты и гороха, которые до краев заполняли повозки. По этой и по соседним дорогам, впереди и позади, раздавался скрип колес, возвещавший о приближении целого обоза таких же повозок; они тянулись в потемках, среди крепкого предрассветного сна, в два часа утра, и убаюкивали утопавший во мраке город своим монотонным грохотом.
Валтасар, разжиревший конь госпожи Франсуа, шел в голове обоза. Он шагал в полудреме, шевеля ушами, как вдруг вздрогнул от испуга и стал точно вкопанный против улицы Лоншан. Шедшие сзади лошади стукнулись головами о задки передних повозок, и вся вереница подвод остановилась, звякнув от толчка железными частями. Послышались проклятия разбуженных возчиков. Госпожа Франсуа, которая сидела на возу с овощами, прислонившись к передку, посмотрела на дорогу, но ничего не смогла различить при слабом мерцании квадратного фонарика, освещавшего слева только лоснящийся бок Валтасара.

– Эй, тетка, двигайся, что ли! – крикнул один из возчиков, встав на колени среди пучков репы. – Наверно, какой-нибудь пьяница – нализался как свинья!
Женщина наклонилась и увидела справа, почти под копытами лошади, темную массу, преграждавшую дорогу.
– Нельзя же давить людей, – сказала она, спрыгнув на землю.
Перед нею, растянувшись во весь рост, раскинув руки и уткнувшись лицом в пыльную мостовую, лежал человек, необычайно длинный и тощий, словно сухая ветвь; чудо, что Валтасар ударом копыта не переломил ему хребет. Госпоже Франсуа показалось, что человек мертв; она присела на корточки, взяла его за руку и почувствовала, что рука теплая.
– Эй, послушайте-ка! – тихо произнесла зеленщица.
А возчики сердились. Тот, что стоял на коленях на возу, продолжал хриплым голосом:
– Да стегните же лошадь, тетушка!.. Ишь нахлестался, проклятый боров. Спихните его в канаву – вот и все.
Между тем лежавший открыл глаза и, не двигаясь, растерянно посмотрел на госпожу Франсуа. Она подумала, что он действительно пьян.
– Нельзя вам тут лежать, вас раздавят… – сказала она. – Куда вы шли?
– Не знаю… – проговорил тот чуть слышно и потом прибавил с усилием, тревожно озираясь: – Я шел в Париж и свалился, не помню как…
Зеленщица вгляделась в него: он был жалок – его изорванная одежда состояла из черных брюк и черного сюртука; под этими лохмотьями выступали кости исхудалого тела. Из-под фуражки грубого черного сукна, опасливо надвинутой на лоб, смотрели большие, необыкновенно кроткие глаза; лицо было суровое и изможденное. Госпожа Франсуа подумала, что такому изнуренному человеку, пожалуй, не до пьянства.
– Да куда же вы хотели попасть в Париже-то? – опять стала она допрашивать.
Незнакомец не сразу ответил, смущенный ее вопросом. Он, казалось, раздумывал и наконец произнес, запинаясь:
– Я шел туда… к рынку.
Он с неимоверным усилием встал, словно собираясь идти дальше. Но у него подкашивались ноги… Зеленщица заметила, что он пошатнулся и в изнеможении прислонился к оглобле.
– Вы устали?
– Да, ужасно, – пробормотал незнакомец.
Тогда она резким и словно недовольным тоном сказала:
– Ну, живо! Полезайте на мой воз! Вы нас только понапрасну задерживаете!.. – и слегка подтолкнула его. – Я сама еду на Центральный рынок и выгружу вас там вместе с овощами.
Видя, что он медлит, она помогла ему подняться и своими мускулистыми руками опрокинула на морковь и репу.
– Да будет вам валандаться! – совсем уже рассердившись, закричала она. – Вы просто мне надоели, любезный… Ведь я вам сказала, что еду на Центральный рынок! Спите пока, я вас разбужу!
Она влезла на воз, уселась боком и прислонилась к передку, взяв в руки вожжи; Валтасар снова пустился в путь, погрузившись в прерванную дремоту и пошевеливая ушами. За ними последовали другие возы; обоз, громыхая в ночном мраке тяжелыми колесами, медленно двинулся вперед мимо фасадов спящих домов. Возчики снова заснули под своими плащами. Тот, который разговаривал с зеленщицей, проворчал:
– Вот еще, не было забот подбирать на дороге всех пьяниц! Охота вам, тетушка, с ними возиться!
Возы двигались вперед, лошади шли понурив головы. Человек, подобранный госпожой Франсуа, лежал на животе. Его длинные ноги затерялись в куче репы, наваленной на задок повозки, а подбородком он уткнулся в пышные пучки моркови. Измученный усталостью, раскинув руки, он обхватил груду овощей, чтобы не упасть от толчков, и смотрел вперед на два бесконечных ряда газовых фонарей, которые сближались, сливаясь вдали, где-то там, вверху, среди множества других светлых точек. На горизонте стояло легкое белое облако испарений, которое окутывало спящий Париж светящейся дымкой – отражением всех его огней.
– Я из Нантера, и зовут меня госпожой Франсуа, – заговорила минуту спустя зеленщица. – С тех пор как я похоронила мужа, мне приходится самой каждый день ездить на рынок. Не очень-то это сладко!.. Ну а вы откуда?
– Меня зовут Флораном, я издалека… – в замешательстве ответил незнакомец. – Простите меня, пожалуйста, но я так устал, что мне трудно говорить.
Путнику, очевидно, не хотелось разговаривать. Зеленщица замолчала, отпустив немного вожжи; Валтасар плелся своей дорогой, как умное животное, которому знаком каждый камень мостовой. Устремив взгляд на необъятное мерцание огней над Парижем, Флоран задумался о своем прошлом, которое ему приходилось скрывать.
Он бежал из Кайенны, куда его бросили декабрьские события[1], и скитался два года по Голландской Гвиане, обуреваемый безумным желанием вернуться на родину и страхом перед императорской полицией. И вот он увидел любимый город, о котором так тосковал и куда так жадно стремился. Он скроется здесь и станет вести прежнюю, тихую жизнь. Полиция ничего не узнает: ведь его считают умершим в ссылке. И Флорану припомнилось недавнее прибытие в Гавр, когда у него оказалось всего пятнадцать франков, завязанных в уголок носового платка. До Руана он еще мог заплатить за проезд, а из Руана пошел уже пешком, потому что у него осталось только тридцать су. В Верноне он купил на последние два су немного хлеба. Флоран плохо помнил, что с ним было после. Кажется, он проспал несколько часов в канаве, потом, должно быть, предъявил жандарму документы, которыми запасся на всякий случай. Все это смутно вертелось у него в голове. От самого Вернона Флоран ничего не ел и шел, испытывая внезапные порывы злобы и отчаяния, заставлявшие его жевать листья, сорванные с придорожной изгороди; его мучили судороги, желудок сводило от голода, в глазах темнело, но он продолжал идти; ноги шагали, словно помимо его воли, направляясь к Парижу, который был где-то далеко, очень далеко, за горизонтом, манил его к себе и, казалось, ждал. Когда Флоран добрался до Курбвуа, была уже глубокая ночь. Париж, похожий на полоску усыпанного звездами неба, упавшую на темную землю, представлялся ему теперь суровым и как будто был недоволен его возвращением. Тут скитальца одолела слабость: он едва спустился с холма. Проходя по мосту Нейльи, Флоран облокотился на перила и наклонился над Сеной, катившей черные воды между неясными массивами берегов, – красный фонарь на воде преследовал его, точно кровавый глаз. Отсюда ему пришлось идти в гору, чтобы добраться до Парижа. Улица представлялась Флорану бесконечной. Сотни лье, пройденные им, казались пустяком; но этот остаток пути приводил его в отчаяние: нет, никогда не взобраться ему на эту увенчанную огнями возвышенность. Ровная улица все тянулась, тянулись ряды высоких деревьев и низких домов, широкие сероватые тротуары, на которые падала пятнами тень от ветвей, темные промежутки поперечных улиц с их тишиной и мраком. Одни лишь газовые фонари, торчавшие на равном расстоянии друг от друга, оживляли эту мертвую пустыню короткими языками желтого пламени. Флоран застыл на месте, улица бесконечно уходила вдаль, отодвигая от него Париж во мрак ночи. Ему мерещилось, что фонарные столбы, подмигивая единственным глазом, бегут справа и слева, унося с собой дорогу; от их мелькания у него закружилась голова, он зашатался и рухнул на землю.
Теперь же Флоран потихоньку катился вперед на ложе из зелени, и оно казалось ему мягким как перина. Он приподнял немного голову, чтобы видеть светящееся облако испарений, разраставшееся над крышами зданий, которые он угадывал на горизонте. Флоран приближался к городу, его везли, ему оставалось только отдаться равномерному покачиванию повозки; и это не утомлявшее его движение было бы приятно, если бы не чувство голода. А голод проснулся, нестерпимый, жестокий. Тело Флорана онемело, он ощущал в себе только желудок, который сводило такой болью, точно его рвали раскаленными щипцами. Свежий запах овощей, в которые он зарылся, пряный аромат моркови волновали его до обморока. Бедняга изо всей силы налегал грудью на свое глубокое ложе из снеди, чтобы стиснуть желудок и унять мучительный голод. А сзади девять таких же повозок с горами капусты, гороха, с ворохом артишоков, салата, сельдерея и порея медленно катились на Флорана, как бы стремясь похоронить его, умиравшего с голоду, под грудами провизии. Наконец последовала остановка, раздались грубые голоса: обоз подъехал к городской заставе, и досмотрщики стали рыться в возах. Затем Флоран, без чувств, стиснув зубы, въехал в Париж, лежа на связках моркови.
– Эй, вы, там, наверху! – громко окликнула его госпожа Франсуа.
Так как лежавший не шевелился, она влезла на воз и принялась тормошить Флорана. Тогда он очнулся и сел; он вздремнул и во сне перестал чувствовать голод, а теперь, проснувшись, совсем одурел. Зеленщица попросила его слезть, говоря:
– Ведь вы поможете мне разгрузиться?
Он принялся помогать ей. Какой-то толстяк в фетровой шляпе, с бляхой на обшлаге левого рукава пальто, сердился и стучал тростью о тротуар:
– Ну, вы, живее! Поворачивайтесь! Придвиньте повозку… Сколько у вас метров? Должно быть, четыре?
Он выдал госпоже Франсуа квитанцию, а та стала вытаскивать из холщового мешочка медяки. После этого господин в пальто, стуча тростью, отправился дальше, продолжая шуметь и горячиться. Между тем зеленщица взяла Валтасара под уздцы и заставила его податься назад так, чтобы колеса повозки упирались в тротуар. Потом, сняв с задка доску и предварительно отмерив по тротуару четыре метра, которые она отметила пучками соломы, госпожа Франсуа попросила Флорана передавать ей овощи, связку за связкой. Зеленщица аккуратно раскладывала свой товар на каменных плитах, стараясь придать ему красивый вид; зеленая ботва окаймляла пучки овощей, из которых госпожа Франсуа с поразительной быстротой соорудила целую выставку, напоминавшую в темноте цветистый ковер с симметрично расположенными пятнами красок. Когда Флоран подал госпоже Франсуа огромную охапку петрушки, лежавшую на дне телеги, зеленщица попросила его еще об одной услуге:
– Не будете ли вы так добры присмотреть за моим товаром, пока я отведу лошадь на постой?.. Это в двух шагах отсюда, на улице Монторгейль, в «Золотом компасе».
Флоран сказал ей, что она может спокойно идти. Ему нетрудно было двигаться, но с тех пор, как он встал, голод пробудился с новой силой. Флоран присел и прислонился к груде капусты возле товара госпожи Франсуа, решив про себя, что так ему будет лучше: он будет сидеть, не двигаясь, и ждать. Он ощущал пустоту в голове и не отдавал себе ясного отчета в том, где находится. В первые дни сентября ранним утром бывает совсем темно. Вокруг Флорана мелькали в потемках огоньки ручных фонарей; по временам они останавливались. Флоран сидел на краю широкой улицы, но не узнавал ее. Она тянулась далеко вглубь, уходя в непроглядный мрак. Беглец ясно видел только товар, который он сторожил. А подальше на панели смутно выступали очертания других наваленных груд. Посреди мостовой, загородив всю улицу, возвышались очертания возов, и на всем протяжении ее слышалось дыхание запряженных лошадей, которых нельзя было различить в темноте. Людские голоса, стук от падения доски, лязг цепи, упавшей на камни, глухое шуршание вываливаемых из повозки овощей, последнее сотрясение воза, ударившегося колесами о тротуар, наполняли пока еще сонный воздух тихим гулом наступающего пробуждения, которое уже чувствовалось в этом трепетном сумраке. Повернув голову, Флоран увидел за кочанами капусты спящего человека; он храпел, завернувшись с ногами в плащ; изголовьем ему служили корзины со сливами. Немного ближе, слева, Флоран рассмотрел мальчика лет десяти, спавшего с ангельской улыбкой на губах между двумя горами салата цикория. А у самого тротуара оживленно двигались только фонари, болтаясь в невидимых руках и перескакивая через спящих, в ожидании утра, людей. Но больше всего изумляли его гигантские павильоны по обеим сторонам улицы: крыши, громоздившиеся одна над другой, как будто росли и ввысь, и вширь, теряясь в золотистой пыли огней. Утомленному воображению Флорана рисовался ряд дворцов, огромных и стройных, легких, словно хрустальных, с тысячами огненных полосок на бесчисленных, беспрерывных рядах жалюзи. Между тонкими ребрами пилястр узкие желтые перекладины представлялись как бы светящимися лестницами, доходившими до темной линии первых крыш, над которыми возвышались верхние крыши, а в просветах виднелись сквозные остовы огромных зал. Здесь, в желтом отблеске газа, выступали беспорядочно нагроможденные сероватые контуры, неясные и неподвижные. Флоран отвернулся; его раздражало то, что он не понимает, где находится; этот призрак чего-то колоссального и хрупкого тревожил его. А посмотрев наверх, он заметил освещенный циферблат башенных часов на церкви Святого Евстафия и серую массу храма. Это крайне его удивило. Значит, он находится на площади Святого Евстафия.
Тем временем возвратилась госпожа Франсуа. Она громко спорила с человеком, который нес на плече мешок. Тот предлагал ей по одному су за пучок моркови.
– Эк куда хватили, Лакайль!.. Ведь вы перепродадите мою морковь парижанам по четыре, по пять су пучок; не возражайте, пожалуйста!.. По два су хотите?
И когда перекупщик отошел, она продолжала ему вслед:
– Они воображают, право, что на огороде все родится само собой. Пусть-ка поищет пьянчуга Лакайль моркови по одному су за пучок… Вот увидите, что он придет ко мне обратно.
Последние слова относились уже к Флорану. Она подсела к нему и снова заговорила:
– Если вы давно не были в Париже, то, пожалуй, еще не знаете Центрального рынка… Ведь он выстроен всего каких-нибудь пять лет тому назад… Вот тут, в павильоне рядом, торгуют фруктами и цветами; немного подальше – рыбой, живностью, а позади – овощами, маслом и сыром… На этой стороне шесть павильонов, а с другой, напротив, – еще четыре; в них помещаются мясные ряды, торговля требушиной и птичий ряд… Здесь очень просторно, только страшно холодно зимой. Говорят, что когда снесут дома вокруг Хлебного рынка, то построят еще два павильона. Скажите, вы об этом слыхали?
– Нет, я был за границей… – ответил Флоран. – А как называется эта большая улица напротив?
– Ее провели недавно; это улица Пон-Нёф, она начинается от Сены и доходит сюда, до улиц Монмартр и Монторгейль… Если бы было светло, вы сейчас же признали бы это место…
Увидев какую-то женщину, наклонившуюся над ее репой, госпожа Франсуа встала и сказала дружеским тоном:
– А, это вы, тетушка Шантмесс?
Флоран смотрел вдоль улицы Монторгейль. Именно здесь его схватила полиция 4 декабря ночью. Около двух часов дня молодой человек потихоньку двигался вместе с толпою по Монмартрскому бульвару, улыбаясь при виде множества солдат, которых Елисейский дворец выслал, чтобы нагнать страху. Вдруг солдаты стали стрелять в упор и в каких-нибудь четверть часа очистили тротуары. Флоран очутился в страшной давке и, сбитый с ног, упал на углу улицы Вивьен. Тут он потерял сознание, обезумевшая толпа топтала его в паническом страхе от выстрелов. Наконец все стихло; он опомнился, хотел встать, но не мог. На нем лежало бездыханное тело молодой женщины в розовой шляпке; шаль, под которой виднелась легкая косынка в мелкую складочку, соскользнула с ее плеч. Косынка была пробита на груди двумя пулями, и, когда Флоран тихонько столкнул труп, чтобы высвободить ноги, из обеих ран потекли тонкие струйки крови прямо ему на руки. Он вскочил, вне себя от ужаса, и убежал без шляпы, с окровавленными руками. До самого вечера молодой человек бродил как потерянный и все время видел перед собой убитую молодую женщину, лежавшую поперек его ног, ее мертвенно-бледное лицо, большие раскрытые голубые глаза и страдальческое выражение губ; она как будто удивлялась своей внезапной смерти. Флоран был застенчив; в тридцать лет он не осмеливался взглянуть на женщину, а это лицо запечатлелось в его памяти и сердце на всю жизнь, точно убитая была его возлюбленной и он ее лишился. Вечером, сам не зная как, все еще потрясенный ужасными сценами дня, он очутился на улице Монторгейль в винном погребке; там бражничали какие-то люди, толкуя между собой о том, что надо строить баррикады. Он пошел с ними, помогал им вытаскивать булыжники из мостовой, а потом присел на баррикаду, утомленный скитанием по городу, решив про себя, что, когда придут солдаты, он будет драться. При нем не было даже ножа, а голова его так и оставалась непокрытой. Около одиннадцати часов Флоран заснул. Ему и во сне мерещились два отверстия, пробитые на белой косынке в мелкую складочку; они смотрели на него, как два красных глаза, полные кровавых слез. Флоран проснулся от ударов, которыми его угощали четверо полицейских. Защитники баррикады разбежались. Но когда полицейские заметили, что руки Флорана в крови, они пришли в ярость и чуть было не убили его. То была кровь молодой женщины.

Поглощенный воспоминаниями, Флоран машинально взглянул на светящийся циферблат башенных часов на церкви Святого Евстафия, хотя стрелок на нем разобрать было нельзя. Время приближалось к четырем часам утра. Центральный рынок по-прежнему спал. Госпожа Франсуа стоя разговаривала с тетушкой Шантмесс, торговавшей пучок репы. И Флорану вспомнилось, что его чуть не расстреляли у стены этой самой церкви Святого Евстафия. Взвод жандармов только что размозжил головы пяти несчастным, захваченным на баррикаде улицы Гренета. Пять трупов валялись на тротуаре, кажется, на том месте, где теперь лежали груды розовой редиски. Флоран избежал расстрела лишь потому, что полицейские были вооружены только шпагами. Его отвели на ближайший полицейский пост, оставив начальнику караула следующую строчку, нацарапанную на клочке бумаги: «Арестован с окровавленными руками. Весьма опасен». До самого утра его таскали из одного участка в другой. Клочок бумаги неизменно сопутствовал ему. На Флорана надели ручные кандалы и стерегли его, как буйнопомешанного. В участке на улице Ленжери пьяные солдаты чуть было не расстреляли его. Они уже зажгли большой фонарь, как вдруг пришел приказ доставить арестованных на гауптвахту полицейской префектуры. Через день Флоран сидел в каземате Бисетрского форта. С тех пор он вечно терпел голод. Флоран начал голодать в каземате, и голод больше не покидал его. В подземелье, без воздуха, было скучено около сотни арестантов; они питались крохотными порциями хлеба, который им кидали, точно зверям, запертым в клетку. Когда Флоран, не имея ни свидетелей, ни защитника, предстал перед судебным следователем, его обвинили в том, что он принадлежит к тайному обществу. Обвиняемый клялся, что это неправда, но следователь вынул из папки с судебными актами клочок бумаги, на котором значилось: «Арестован с окровавленными руками. Весьма опасен». Этого было достаточно. Его приговорили к ссылке. Шесть недель спустя, в январе, Флорана разбудил ночью тюремный сторож, и его заперли вместе с другими арестантами во дворе, где их набралось свыше четырехсот человек. Через час эту первую партию отправляли на понтоны и в ссылку, в железных наручниках, между двумя шеренгами жандармов с заряженными ружьями. Они миновали Аустерлицкий мост, прошли по бульварам и прибыли на Гаврский вокзал. То была веселая ночь карнавала: окна ресторанов на бульварах сияли яркими огнями. На углу улицы Вивьен, на том самом месте, где Флорану все еще мерещилась убитая, чей образ он унес с собой, остановилась коляска; в ней сидели дамы в масках, с обнаженными плечами, весело болтая между собой. Они были недовольны, что их экипаж задерживают, и с брезгливостью оглядывали «этих каторжников, которым не видно конца». От Парижа до Гавра у арестантов не было во рту ни крошки хлеба, ни глотка воды: им позабыли перед отъездом раздать паек. Они поели только тридцать шесть часов спустя, когда их набили битком в трюм фрегата «Канада».
Нет, голод больше не покидал его. Флоран перебирал свои воспоминания и не мог припомнить ни одного часа, когда бы он был вполне сыт. Он весь высох, желудок у него стянуло. От Флорана остались лишь кожа да кости. И вот он снова увидел Париж, разжиревший и пышный, где в ночных потемках пища валилась через край; он въехал в этот город на ложе из овощей, он утопал в неизведанной снеди, эти горы съестного волновали его. Значит, веселая ночь карнавала продолжалась целых семь лет. Флоран снова видел перед собой сияющие на бульварах окна, смеющихся женщин, видел город-лакомку, покинутый им в ту далекую январскую ночь; и ему казалось, что все это разрослось, расцвело среди громад Центрального рынка, дыхание которого, обремененное еще не переварившейся вчерашней пищей, он, казалось, ощущал.
Тетушка Шантмесс решилась наконец купить двенадцать пучков репы. Она держала их в переднике, на животе, отчего ее полная талия стала еще круглее, и не уходила, а все продолжала разговаривать своим тягучим голосом. Когда она ушла, госпожа Франсуа снова подошла к Флорану и сказала:
– Этой бедной старухе Шантмесс по меньшей мере семьдесят два года. Я была еще девчонкой, когда она уже покупала репу у моего отца. И ни души родных у ней; приютила она у себя какую-то бродяжку, и та порядком ее изводит… А ведь вот перебивается, торгует вразнос зеленью и зарабатывает по сорок су в день. Доведись мне, я ни за что не могла бы день-деньской топтаться на тротуаре в этом проклятом Париже! Да еще, добро, была бы тут хоть какая-нибудь родня!
И так как Флоран ничего не отвечал ей, она спросила:
– Но у вас-то есть в Париже родные?
Он сделал вид, будто не слышит. К нему вернулось прежнее недоверие. Бедняге мерещилась полиция, сыщики, подстерегающие его на каждом шагу, женщины, которые продают чужие тайны, выпытав их у несчастных.
Госпожа Франсуа сидела с ним рядышком; правда, эта женщина, со спокойным широким лицом, в фуляровом платке в черную и желтую полоску, казалась ему вполне порядочной. Ей было лет тридцать пять; довольно полная, с мужественным выражением лица, несколько смягченным черными глазами, сочувствующими и ласковыми, она отличалась той красотой, которую придает жизнь на свежем воздухе. Конечно, госпожа Франсуа была очень любопытна, но под ее любопытством скрывалась сердечная доброта.

Не обижаясь на Флорана за его молчание, зеленщица продолжала:
– А у меня племянник в Париже; вышел он парень неудачливый и запутался в долгах… А хорошо, когда есть где остановиться. Ваши родные, пожалуй, удивятся, увидев вас, обрадуются?
Она говорила, не спуская с него глаз; крайняя худоба Флорана, вероятно, внушала ей сострадание; она чувствовала, что, несмотря на жалкие лохмотья, он, должно быть, «из господ», и не смела сунуть ему в руку серебряную монету.
Наконец она робко добавила:
– Может быть, пока вы разыщете своих, вам что-нибудь понадобится?..
Но он отказался с тревожной гордостью: нет, у него есть все необходимое и он знает, куда идти. Госпожа Франсуа обрадовалась и повторила несколько раз, успокоившись за его судьбу:
– Ну тогда вам нужно только дождаться утра.
Над самой головой Флорана, на углу павильона, где торговали фруктами, зазвонил большой колокол. Его медленные, равномерные удары, разливаясь все дальше и дальше, казалось, спугнули сон, царивший на площадке. То и дело проезжали возы с провизией; окрики возчиков, щелканье бичей, стук обитых железом колес и конских копыт по мостовой постепенно усиливались; повозки двигались с остановками, выравниваясь гуськом, и тянулись дальше в сероватом сумраке утра, теряясь вдали, там, откуда поднимался смутный гул. Вдоль всей улицы Пон-Нёф шла разгрузка; повозки были придвинуты к самому краю мостовой, а лошади, тесно прижавшись друг к другу, стояли неподвижно в один ряд, точно на ярмарке. Флоран обратил внимание на громадный воз великолепной капусты, который с большим трудом осаживали назад, к тротуару; гора кочанов поднималась выше фонаря с газовым рожком, торчавшего рядом и ярко освещавшего груду широких листьев, которые заворачивались, точно полы из темно-зеленого бархата, гофрированные и узорчатые по краям. Маленькая крестьянка, лет шестнадцати, в казакине и в голубом полотняном чепчике, влезла на воз и, утонув по плечи в капусте, стала брать один кочан за другим и бросать их кому-то, стоявшему внизу в тени. Порою девушка, поскользнувшись, совсем исчезала, заваленная внезапно обрушившейся на нее капустой, но потом ее розовый носик снова показывался в густой зелени: она хохотала, а кочаны капусты опять принимались летать, мелькая между фонарным столбом и Флораном. Он машинально считал их. Когда телегу разгрузили, ему стало досадно.
Теперь штабели овощей на панели тянулись до самой мостовой. Огородники оставляли между ними узкий проход для людей. Широкий тротуар был весь завален, от одного конца до другого, темными грудами зелени. При движущемся свете ручных фонарей из темноты выступала то пышная связка мясистых артишоков, то нежная зелень салата, то розовый коралл моркови, то матово-желтая белизна репы. Эти краски словно вспыхивали перед глазами и мелькали вдоль всей груды овощей, когда мимо них проходили с фонарями. Тротуар наполнялся людьми; они оживленно ходили среди товара, останавливались, разговаривали, окликали друг друга. Чей-то громкий голос кричал вдали: «Эй, салат цикорий!» Решетчатые ворота павильона овощей только что открылись. Торговки из этого павильона, в белых чепчиках, в косынках, повязанных поверх черных кофт, с подколотыми булавкой юбками, чтобы не запачкать подол, запасались товаром на день и нагружали свои покупки в большие корзины носильщиков, поставленные на землю. Эти корзины все быстрее мелькали от павильона к мостовой, среди толкотни, крепких словечек и галдежа покупателей и продавцов, которые по четверть часа торговались чуть не до хрипоты из-за какого-нибудь су. Флоран не мог надивиться тому спокойствию, какое сохраняли загорелые огородницы в полушелковых платках среди этой болтливой суматохи рынка.
Позади него, на тротуаре улицы Рамбюто, продавали фрукты. Самые разнообразные корзины, плетенки и корзинки с ручками, прикрытые холстом или соломой, вытянулись в ряд. В воздухе стоял запах перезрелой мирабели. Нежный, неторопливый голос, который Флоран слышал уже давно, заставил его обернуться. Он увидел очаровательную брюнетку небольшого роста; молодая женщина торговалась, сидя на корточках:
– Ну как, Марсель, продашь за сто су?
Человек, закутанный в плащ, не отвечал ни слова, и покупательница спустя добрых пять минут начала сызнова:
– Говори же, Марсель, сто су за эту корзину и четыре франка вот за ту, – отдаешь за девять франков обе?
Снова молчание вместо всякого ответа.
– Ну, так сколько же тебе дать?
– Ведь я уже сказал: десять франков… Чего же еще?.. А куда ты девала своего Жюля, Сарьетта?
Молодая женщина засмеялась, вынимая из кармана пригоршню мелочи:







