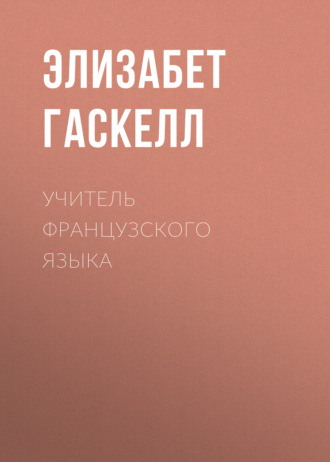
Элизабет Гаскелл
Учитель французского языка
Однажды, в воскресенье, в августе 1815 года, я отправилась в церковь. Много недель прошло с тех пор, когда я имела возможность отличиться от отца на такое долгое время. В ту минуту, когда я вышла из церкви, мне показалось, как будто юность моя отлетела, пронеслась мимо меня незамеченною, – не оставив по себе ни малейших следов. После обедни, я прошла по высокой траве к той части кладбища, где покоилась наша мама. На её могиле лежала свежая гирлянда из золотистых иммортелей. Это необычайное приношение изумило меня. Я знала, что обыкновение это существует преимущественно у французов. Приподняв гирлянду, я прочитала в ней, по листьям темной зелени, отделявшемся от иммортелей, слово: «Adieu.» В голове моей в тот же момент блеснула мысль, что мосьё де-Шалабр воротился в Англию. Кроме его, ни от кого нельзя было ожидать такого внимания к памяти мама. Но при этом меня удивляла другая мысль, что мы не только не видели его, но ничего о нем не слышали; – ничего не слышали с тех пор, как леди Ашбуртон сообщила нам, что её муж только раз встретил его в Бельгии, и вскоре после того умер от Ватерлосских ран. Припоминая все эти обстоятельства, я незаметным образом очутилась на тропинке, которая пролегала от нашего дома, через поле к фермеру Добсону. Я тотчас же решилась дойти до него и узнать что-нибудь относительно его прежнего постояльца. Вступив на саиовую дорожку, ведущую к дому, я увидела мосьё де-Шалабра: он задумчиво смотрел из окна той комнаты, которая некогда служила ему кабинетом. Через несколько секунд он выбежал ко мне на встречу. Если моя юность отлетела, то его молодость и зрелые лета совершенно в нем исчезли. В течение нескольких месяцев, с тех пор, как он оставил нас, он постарел, по крайней мере, лет на двадцать. Эту постарелость увеличивала в нем и перемена в платье. Бывало, прежде, он одевался замечательно щеголевато; но теперь в нем проглядывала небрежность, и даже неряшество. Он спросил о моей сестре и об отце таким тоном, который выражал глубокое и почтительное участие, мне показалось, что он спешил заменить один вопрос другим, как будто стараясь предупредить мои вопросы, которые я в свою очередь желала бы сделать.
– Я возвращаюсь сюда к моим обязанностям, к моим единственным обязанностям. Богу не угодно было назначить мне другие, более высшие. С этой поры я становлюсь настоящим учителем французского языка, прилежным, пунктуальным учителем, – ни больше, ни меньше. Я стану учить французскому языку, как должен учить благородный человек и христианин; – буду исполнять мой долг добросовестно. Отныне, грамматика и синтаксис будут моим достоянием, моим девизом.
Он говорил это с благородным смирением, не допускавшим никаких возражений. Я могла только переменить разговоре, убедительно попросив его навестить моего больного отца.
– Навещать больных – это мой долг и мое удовольствие. От общества – я отказываюсь. Это не согласуется теперь с моим положением, к которому я стану применяться по мере сил своих и возможности.
Когда он пришел провести час, другой с моим отцом, он принес с собою небольшую пачку печатных объявлений об условиях, на которых мосьё Шалабр (частичку де он отбросил теперь навсегда) желал обучать французскому языку; несколько строк в конце этих объявлений относились прямо к пансионам, к которым он обращался с просьбою оказать ему внимание. Теперь очевидно было, что все надежды бедного мосьё де-Шалабра исчезли навсегда. В прежнее время, он не хотел быть в зависимости от пансионов; он обучал нас скорее, как аматер, нежели с намерением посвятить свою жизнь этой профессии. Он почтительно попросил меня раздать эти объявления. Я говорю «почтительно» не без основания; это не была та милая услужливость, то предупредительное внимание, которые джентльмен оказывает леди, равной ему по происхождению и состоянию – нет! в этой почтительности была покорная просьба, с которою работник обращается к своему хозяину. Только в комнате моего отца он был прежним мосьё де-Шалабром. Казалось, он понимал, как напрасны были бы попытки исчислить и объяснить обстоятельства, которые принудили его занять более низкое положение в обществе. С моим отцом, до самого дня его смерти, мосьё де-Шалабр старался сохранить приятельские отношения; – принимал веселый вид, чего не делал во всяком другом месте, – выслушивал ребяческие рассказы моего отца с истинным и нежным сочувствием, за которое я всегда была признательна ему, хотя в отношении ко мне он продолжал сохранять почтительный вид и почтительный тон, которые служили для меня преградой к выражению чувств благодарности.
Его прежние уроки заслужили такое уважение со стороны тех, которые удостоились чести брать их, что в скором времени он подучил множество приглашений. Пансионы в двух главных городах нашего округа предложили выгодные условия и считали за особенную честь иметь его в числе своих наставников. Мосьё де-Шалабр был занят с утра до-вечера: если бы он движимый чувством благородной гордости, не отказался навсегда от общества, то и тогда он не мог бы уделить ему свободной минуты. Его единственные визиты ограничивались моим отцом, который ждал их с детским нетерпением. Однажды, к моему особенному удивлению, он попросил позволения поговорить со мной на-едине. Несколько минут он стоял перед мной, не сказав ни слова и только повертывая и приглаживая шляпу.
– Вы имеете право на мою откровенность, вы – моя первая ученица. В будущий вторник я женюсь на мисс Сузанне Добсон – на этой доброй и почтенной девице, счастью которой я намерен посвятить всю мою жизнь, или, по крайней мере, ту часть моей жизни, которая останется свободною от моих занятий.
Сказав это, он пристально посмотрел на меня, ожидая, быть может, моих поздравлений, но я стояла перед ним пораженная изумлением. Я не могла постичь, каким образом могла пленить его Сузанна, эта бойкая, веселая, краснорукая, краснощекая Сузанна, которая в минуты стыдливости становилась красною, как свекла, которая ни слова не знала по-французски, которая считала французов (кроме джентльмена, стоявшего передо мной) за людей, питающихся одними лягушками, – за непримиримых врагов Англии! Впоследствии, я думала, что, быть может, это самое неведение составляло одну из её прелестей. Ни одно слово, ни один намек, ни выразительное молчание, ни взгляды сожаления, не могли напоминать мосьё де-Шалабру горькое минувшее, которое он, очевидно, старался забыть. Не было ни малейшего сомнения, что мосьё де-Шалабр приобретал в Сюзанне самую преданную и любящую жену. Она немного боялась его, всегда оказывала ему покорность и почтительность, – а эта дань, я полагаю, должна нравиться всякому мужу. Мадам Шалабр, после своей свадьбы, приняла мой визит с серьёзным, несколько грубоватым, но счастливым достоинством, которого я никогда не подозревала в Сузанне Добсон. Они занимали небольшой коттедж у самой опушки леса; при коттедже находился маленький садик; корова, свиньи и куры бродили в ближайшем кустарнике. Простая деревенская женщина помогала Сузанне присматривать за всем этим хозяйством; – мосьё де-Шалабр посвящал все минуты своего досуга садику и пчелам. Сузанна, с заметной гордостью, водила меня по чистым и уютным комнаткам.
– Это все сделал мусью (так она называла своего мужа). – Это все мусью устроил. – Мусью, вероятно, когда то был богатым человеком.
В небольшом кабинете мосьё де-Шалабра висел карандашный рисунок весьма неизящной работы. – Он привлек к себе мое внимание, и я остановилась посмотреть его. Он изображал высокое, узкое здание, с четырьмя башенками по углам, на подобие перечницы, и на первом плане какую-то сухую, тяжелую аллею.
– Неужели это замок Шалабр? спросила я.
– Не знаю, – никогда не спрашивала, отвечала m-me Шалабр. – Мусью не нравится, когда его расспрашивают. Эта картинка представляет какое-то место, которое он очень любит, потому что не позволяет стирать пыль с картинки, боясь, что я ее запачкаю.
Женитьба мосьё де-Шалабра не уменьшила числа визитов его моему отцу. До самой смерти батюшки, он постоянно старался доставлять больному развлечения. Но с той минуты, когда он объявил намерение жениться, с минуты его разрыва с отечеством, его беседа перестала дышать чувством откровенности и дружбы. Несмотря на то, я продолжала навещать его жену. Я не могла забыть юношеских дней, ни прогулок по клеверному полю до опушки леса, ни ежедневных букетов, ни уважения, которое добрая наша мама оказывала эмигранту, на тысячи маленьких услуг, которые он оказывал моей сестре и мне. Он сам хранил эти воспоминания в глубине своего молчаливого сердца. По этому, я всеми силами старалась сделаться подругой его жены, и она научилась смотреть на меня, как на подругу. В комнате больного отца я занималась приготовлением белья для ожидаемого малютки Шалабра, мать которого хотела (так говорила она) просить меня быть восприемницей, но её муж довольно сурово напомнил ей, что им следует искать куму между людьми одного с ними положения в обществе. Несмотря на то, в душе, я считала маленькую Сузанну моей крестницей, и дала себе клятву постоянно принимать в ней живое участие. Не прошло двух месяцев после смерти моего отца, как маленькой Сузанне Бог дал маленькую сестрицу, и человеческое сердце в мосьё де-Шалабре поработило его гордость, – новорожденной предназначалось носить имя своей бабушки-француженки, хотя Франция не могла найти места для отца и изгнала его. Эта маленькая дочь была названа Ами.
Когда отец мой умор, Фанни и муж убедительно просили меня оставить Брукфильд и переехать к ним в Валетту. Поместье, по духовному завещанию, было оставлено нам; явился выгодный арендатор; мое здоровье, значительно пострадавшее во время продолжительного ухаживанья за больным отцом, поставило меня в необходимость отправиться куда-нибудь в более теплый климат. По этому, я поехала за границу, с намерением пробыть там не более года, но, по какому-то случаю, срок этот продлился до конца моей жизни. Мальта и Генуя сделались моим постоянным местопребыванием. Правда, от времени до времени я приезжала в Англию, но, прожив за границей лет тридцать, Перестала смотреть на нее, как на отчизну. Во время приездов, я видалась с Шалабрами. Мосьё де-Шалабр, больше, чем когда-нибудь, углубился в свое занятие; издал французскую грамматику по какому-то новому плану, и подарил мне экземпляр этого издания. Мадам Шалабр растолстела и благоденствовала; ферма, находившаяся под её управлением, расширилась; а что касается до её двух дочерей, то при английской застенчивости, они имели чрезвычайно много французской живости и остроумия. Я брала их с собой на прогулки и в разговорах с ними старалась привязать их к себе, старалась довести их до того, чтоб дружба наша была действительностью, а не простым, обыкновенным, наследственным чувством; с этой целью я предлагала им множество вопросов об отвлеченных предметах, но маленькие шалуньи в свою очередь экзаменовали меня и расспрашивали о Франции, которую они считали своим отечеством.







