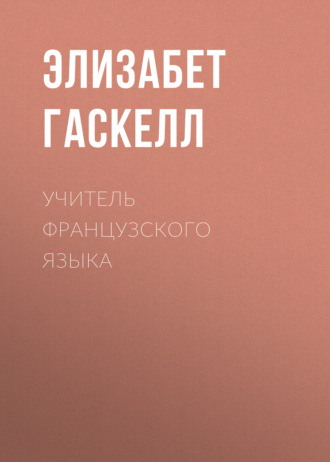
Элизабет Гаскелл
Учитель французского языка
Мы росли; из детей сделались девочками, – из девочек – невестами, – а мосьё де-Шалабр продолжал по прежнему давать уроки в нашем лесном округе; по прежнему все его любили и уважали; – по прежнему не обходились без него ни один обед, ни одна вечеринка. Хорошенькая, веселенькая, шестнадцатилетняя Сузанна уже была покинута неверным Робертом и сделалась миловидною степенною тридцатидвухлетнею девой, но по прежнему прислуживала мосьё де-Шалабру и по прежнему постоянно хвалила его. Бедная наша мама переселилась в вечность; моя сестра была помолвлена за молодого лейтенанта, который находился на своем корабле в Средиземном море. Мой отец по прежнему был молод в душе и во многихе привычках; только голова его совершенно побелела, и старинная хромота беспокоила его чаще прежнего. Его дядя оставил ему значительное состояние, по этому, он всей душой предался сельскому хозяйству, и ежегодно бросал на эту прихоть порядочную сумму с душевным наслаждением. Кроткие упреки в глазах нашей мама уже более не страшили его.
В таком положении находились наши дела, когда объявлен был мир 1814 года. До нас доходило такое множество слухов, противоречивших один другому, что мы наконец перестали верить «Военной Газете» и рассуждали однажды довольно горячо о том, до какой степени газетные известия заслуживают вероятия, когда в комнату вошел мосьё де-Шалабр без доклада и в сильном волнении:
– Друзья! воскликнул он: – поздравьте меня! Бурбоны….
Он не в силах был продолжать: черты его лица, даже его пальцы, приходили от радости в движение, но говорить он не мог. Мой отец поспешил успокоить его.
– Мы слышали приятную новость (видите, девицы, на этот раз газетные известия совершенно справедливы). Поздравляю вас, мой добрый друг. Я рад; душевно рад.
И схватив руку мосьё де-Шалабра, он так крепко сжал ее, что боль, которую испытывал мосьё де-Шалабр, подействовала спасительным образом на его нервное волнение.
– Я еду в Лондон. Я еду немедленно, чтоб увидеть моего государя. Завтра, в отели Грильон, государь принимает всех своих верноподданных: я еду выразить ему свою преданность. Надену гвардейский мундир, который так долго лежал без употребления, – правда, он староват и поизношен, – но ничего! – на него смотрела Мария Антуанета, – а это обстоятельство всегда будет придавать ему новизну.
Мосьё де-Шалабр ходил по комнате быстрыми, нетерпеливыми шагами. Заметно было, что он чем-то был озабочен. Мы сделали знак нашему папа, чтоб он помолчал и дал нашему другу успокоиться.
– Нет! сказал мосьё де-Шалабр, после непродолжительной паузы. – Я не могу проститься с вами навсегда; – для этого, мои неоцененные друзья, я должен воротиться к вам. Я приехал сюда бедным эмигрантом; – великодушные люди приняли меня, как друга, и берегли – как родного. Поместье Шалабр – весьма богатое поместье, и, я надеюсь, мои друзья не забудут меня: они приедут навестить меня в моем отечестве. В воспоминание их дружбы, Шалабр согреет, оденет и накормит каждого бедняка англичанина, который будет проходить мимо его дверей. Нет! я не прощаюсь с вами. Я уезжаю теперь не больше, как дня на два.
* * *
Мой папа настоял на том, чтоб довезти мосьё де-Шалабра в своем кабриолете до ближайшего города, мимо которого проходила почтовая карета. В течение небольшого промежутка времени, пока делались приготовления к отъезду, мосьё де-Шалабр сообщил нам некоторые подробности о своем поместье. До этой поры, он никогда не говорил о нем; мы почти ничего не знали о его положении в своем отечестве. Генерал Ашбуртон встречался с ним в Париже в таком кругу, где о человеке судили по его уму, по светскому образованию и благородству характера, но не по богатству и старинному происхождению. Только теперь мы узнали, что мосьё де-Шалабр владел обширными поместьями в Нормандии, владел замком Шалабр; – правда, все это было конфисковано вследствие его эмиграции, но ведь это случалось в другое время и при других обстоятельствах.
– О! если б жива была ваша мама, – этот неоцененный друг мой, – каких редких и роскошных цветов прислал бы я ей из Шалабра! Когда я смотрел, с какой заботливостью и вниманием ухаживала она за кустом роз самого бедненького сорта, я вспоминал и грустил о моем розовом саде в Шалабре. А какие у меня оранжереи! Ах, мисс Фанни! – невеста, которая хочет иметь хорошенький венок на свадьбу, должна непременно приехать за ним в замок Шалабр.
Этими словами мосьё де-Шалабр намекал на помолвку моей сестры – на факт, очень хорошо известный ему, как преданному и верному другу нашего дома.
Папа наш воротился домой в самом веселом расположении духа. В тот же вечер он приступил к составлению плана относительно весенних посевов, чтоб при уборке хлеба выиграть несколько времени на поездку в замок Шалабр; что же касается до нас, то мы были убеждены, что нет никакой необходимости откладывать эту поездку далее осени текущего года.
Дня через два, мосьё де-Шалабр воротился, – немного опечаленный, как нам казалось, но мы не сочли за нужное говорить об этом нашему папа. Как бы то ни было, мосьё де-Шалабр объяснил нам это уныние, сказав, что нашел Лондон, против всякого ожидания, чрезвычайно многолюдным и деятельным; – что после деревни, в которой деревья начинали покрываться зеленью, он показался ему дымным, душным и скучным; и когда мы пристали к нему, чтобы он рассказал о приеме в отели Грильона, он начал смеяться над собой, объяснив, что совершенно забыл давнишнее расположение графа Прованского к тучности, и что он изумился, увидев дородную особу Людовика XVIII, которому стоило большего труда передвигаться с одного места на другое в приемном зале отеля.
– Но что же он сказал вам? спросила Фанни. – Как он вас принял, когда вы представились?
Чувство досады отразилось на его лице, и тотчас же исчезло.
– Да!.. его величество забыл мое имя. Впрочем, трудно было ожидать, чтоб он его вспомнил, несмотря на то, что наше имя стоит на ряду замечательнейших в Нормандии; – я, конечно…. впрочем, – это ничего не значит. Герцог Дюрас напомнил ему несколько обстоятельств, которые, как я надеялся, навсегда останутся в памяти его величества, – впрочем, и то сказать, продолжительное изгнание заставит забыть многое, – по этому, нет ничего удивительного, что он не мог припомнить меня. Он выразил надежду увидеть меня в Тюльери. Его надежда – для меня закон. Я отправляюсь приготовиться к отъезду. Если его величество не нуждается в моем мече, я обменяю этот меч на плуг и удалюсь в Шалабр. Ах, – мой друг! – я никогда не забуду тех наставлений по части сельского хозяйства, которые заимствовал от вас.
Драгоценный подарок не имел бы в глазах нашего папа такого значения, как эта последняя фраза. Он тотчас же начал осведомляться о качестве грунта и проч. таким серьёзным тоном, и с таким вниманием, что мосьё де-Шалабр, сознавая свое невежество по этой части, только слушал его, да пожимал плечами.
– Ничего! – не беспокойтесь! – говорил мой отец. – Рим ведь не в один день выстроен. Много прошло времени, прежде, чем я узнал все то, что знаю теперь. Я боялся, что нынешней осенью мне нельзя будет тронуться с места; но теперь я вижу, что вы встретите нужду в человеке, который бы посоветовал вам, как должно подготовить землю для весеннего посева.
Таким образом, мосьё де-Шалабр оставил наш округ, с полным убеждением, что в сентябре мы приедем к нему в его нормандский замок. От всех, кто только более или менее был добр к нему, – а к нему все были одинаково добры он взял обещание навестить его в определенные сроки. – Что касается до старого фермера, до бойкой жены его и веселой Сузанны, – их, как мы узнали, мосьё де-Шалабр вызвался перевезти в свои поместья без платы и пошлины, под тем предлогом, что французские коровницы не имеют вы малейшего понятия о чистоте, а тем более не имеют понятия о сельском хозяйстве французские фермеры; – ему решительно необходимо было взять кого-нибудь из Англии, чтоб привести в порядок дела замка Шалабр. Фермер Доброн и его жена не могли не согласиться с столь основательными доводами.
Несколько времени мы не получали от нашего друга никаких известий. Почтовые сношения между Францией и Англией, по случаю возгоревшейся войны, сделались весьма неблагонадежными. По этому, мы принуждены были ждать и старались быть терпеливы мы. Осеннюю поездку во Францию мы отложили. Папа много говорил нам на счет расстроенного положения дел во Франции, и сильно журил нас за безрассудное ожидание получить так скоро письмо от мосьё де-Шалабра. Мы, однако ж, знали, что доводы, которые представлял папа в наше утешение, служили собственно к тому, чтоб успокоить его собственное нетерпение, – и что увещания потерпеть немного он делал для того, что считал их необходимыми для своей особы.
Наконец пришло и письмо. В нем проглядывала благородная попытка казаться веселым, но эта веселость вызывала слезы скорее, чем вызывали б их прямые горькие сетования на судьбу. Мосьё де-Шалабр надеялся получить патент на чин подпоручика гвардии, – патент, подписанный самим Людовиком XVI в 1791 году. На полк был переформирован или расформирован – право, не умею сказать; – для утешения нашего, мосьё де-Шалабр уверял нас, что не ему одному отказали в подобном домогательстве. Он пробовал определяться в другие полки, во нигде не было вакансии. «Не славная ли доля для Франции, иметь такое множество храбрых сынов, готовых проливать свою кровь за государя и отечество?» – Фанни отвечала на этот вопрос словами: какая жалость! – а папа, вздохнув несколько раз, утешил себя мыслью, высказанною вслух: тем лучше для мосьё де-Шалабра, ему больше будет времени присмотреть за расстроенным имением.
Наступившая зима была исполнена многих событий в нашем доме. Одно замечательное происшествие сменяло другое, как это часто случается после продолжительного застоя в домашних делах. Жених Фанни возвратился; они обвенчались, оставив нас одних – отца моего и меня. Корабль её мужа находился в Средиземном море. – Фанни должна была отправиться на Мальту и жить с новыми родными. Не знаю, разлука ли с дочерью так сильно подействовала на весь организм моего отца, или другие причины, только, вскоре после её отъезда, с ним сделался паралич; и потому интереснее всех известий и всех военных реляций были для меня известия и реляции о состоянии больного. Меня не занимали политические события, потрясавшие в то время всю Европу. Мои надежды, мои опасения сосредоточивались на моем милом, неоцененном, любимом нами и любившем нас отце. Я несколько дней сряду держала в кармане письмо мосьё де-Шалабра, не находя времени разобрать его французские иероглифы; наконец, я прочитала его моему бедному отцу, не столько из нетерпения узнать, что заключалось в нем, сколько из повиновения желанию отца. Известия от нашего друга были также печальны, как казалось печальным все другое в эту угрюмую зиму. Какой-то богатый фабрикант купил замок Шалабр, поступивший в число государственных имуществ, вследствие эмиграции владетеля. Этот фабрикант, мосьё де Фэ, принял присягу в верности Людовику XVIII, и купленное имение сделалось его законным достоянием. Мой отец сильно горевал об этой неудаче нашего бедного друга, – горевал, впрочем, только в тот день, когда ему напоминали о ней, а на другой день забывал обо всем. Возвращение Наполеона с острова Эльбы, быстрая последовательность важных событий, Ватерлосская битва, – ничто не занимало бедного отца; для него, в его втором младенчестве, важнее всех событий был пудинг или другое лакомое блюдо.







