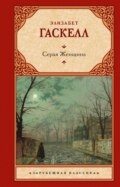Элизабет Гаскелл
Поклонники Сильвии
Elizabeth Gaskell
Sylvia’s Lovers
© Новоселецкая И. П., перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019
* * *
В твоем же гласе – утешенье!
Но на ответ иль исправленье
Питать надежду на том свете[1].
Глава 1. Монксхейвен
На северо-восточных берегах Англии раскинулся городок Монксхейвен[2], где ныне проживают около пятнадцати тысяч человек. Однако в конце минувшего столетия обитателей там насчитывалось вполовину меньше, и именно в ту пору происходили события[3], о которых повествуется на следующих страницах.
Монксхейвен – название небезвестное в истории Англии, здесь нашла прибежище одна лишенная трона королева[4], о чем в городе живы предания. В ту пору на близлежащих возвышенностях восседал укрепленный замок, на месте которого теперь стоял заброшенный особняк; а еще раньше, задолго до прибытия королевы, на тех скалах обосновался ровесник самых древних камней замка – большой монастырь[5], обозревавший ширь океана, сливавшегося с небом в дальней дали. Сам Монксхейвен возник в устье реки Ди[6], там, где ее воды впадали в Германский океан[7]. От центральной улицы, что бежала параллельно речному руслу, ответвлялись узкие улочки, карабкавшиеся вверх по крутым склонам холма, а между ним и рекой притулились жилые дома. Через Ди был перекинут мост, и, соответственно, от него отходила Мостовая улица, которая шла строго перпендикулярно Главной; и к югу от реки в окружении садов и полей расположились несколько более помпезных домов. Именно в этой части города проживала местная знать. И кто же были аристократы этого маленького городка? Не отпрыски графских родов, чтившие традиции наследования в своих особняках на девственно суровых вересковых пустошах, которые отгораживали Монксхейвен от остального мира на суше столь же надежно, как и вода со стороны океана. Нет, представители этих старинных фамилий чурались неприятного, но рискованного ремесла, благодаря которому из поколения в поколение обогащались некоторые семьи Монксхейвена.
Магнатами Монксхейвена слыли те, кто владел наибольшим количеством судов, занятых в китобойном промысле. Жизнь монксхейвенского паренька из этого класса обычно складывалась следующим образом: наряду с другими юнцами, числом человек двадцать, а то и больше, он поступал юнгой на корабль одного из богатых судовладельцев – возможно, собственного отца. Летом вместе со своими товарищами он ходил в Гренландские моря, ранней осенью возвращался с добычей, а зимой наблюдал, как в топильнях производят масло из ворвани, и постигал науку навигации под началом какого-нибудь чудаковатого, но опытного наставника, одновременно учителя и моряка, сдабривавшего уроки волнующими рассказами о безумных приключениях своей юности. На период «мертвого» сезона, длившегося с октября по март, он вместе со своими товарищами поселялся в доме владельца судна, к которому их определили в ученики. Там отношение к этим юношам разнилось в зависимости от платы за обучение: одни находились на том же положении, что и хозяйские сыновья, с другими обращались чуть лучше, чем со слугами. Однако стоило им взойти на борт судна, все сразу становились равны: если кто и претендовал на превосходство, то только самый отважный и способный. Совершив определенное количество выходов в море, монксхейвенский паренек постепенно дослуживался до капитана и, как таковой, получал право на долю добычи; вся его прибыль и сбережения шли на постройку собственного китобойного судна, если только ему не посчастливилось родиться в семье судовладельца. В то время, о котором я пишу, в монксхейвенском китобойном промысле разделения труда фактически не существовало. Один и тот же человек мог быть владельцем шести-семи китобойных судов, командовать одним из них, обладая необходимыми навыками и опытом, держать два десятка учеников, каждый из которых платил ему приличную сумму, и иметь в собственности топильные цеха, где перерабатывали на продажу добытую ворвань и китовый ус. Посему неудивительно, что эти судовладельцы наживали огромные состояния и их дома к югу от Ди являли собой величавые особняки, обставленные красивой добротной мебелью. Не удивляло и то, что город в целом имел земноводный облик, что до некоторой степени было необычно даже для морского порта. Здесь все до единого зависели от китобойного промысла, и почти каждый обитатель мужеского пола был – или надеялся стать – моряком. В определенное время года в низовьях реки витал почти нестерпимый запах, который, кроме жителей Монксхейвена, мало кто смог бы вынести, но местные старики и дети часами торчали в тех вонючих «доках», словно упивались смрадным духом ворвани.
Впрочем, довольно описывать сам город. Я говорила, что этот край на многие мили окрест покрывали вересковые пустоши; высоко над морем вздымались скалы, чьи вершины венчала зелень, травяными прожилками чуть выплескивавшаяся на сиреневые склоны. Тут и там с гор к морю пробивались речушки, проложившие в долинах свои русла, которые водные потоки за многие годы сделали относительно широкими. А во впадинах на вересковых пустошах, как и в этих долинах, густо росли деревья и кустарники; и если на голых возвышенностях нагорья пустынная безотрадность пейзажа вызывала у вас дрожь, то, спускаясь в эти лесистые «ямы», вы очаровывались уютной прелестью прибежища, что находили там. Но над этими не столь часто встречающимися плодородными низинами и вокруг простирались бескрайние пустоши, местами довольно унылые, с обнаженными глыбами красного песчаника, выступающими на облезлых лугах; бывало, попадались и бурые торфяные болота – ненадежная дорога для путников, пытавшихся срезать путь до цели своего путешествия; а песчаные почвы более высоких участков обильно устилал вереск, самый что ни на есть обыкновенный, лиловевший в своей восхитительной первозданности. Кое-где торчали пучки сочной гибкой травы, которую ощипывали маленькие черномордые овечки; то ли из-за скудости пищи, то ли в силу своей природной подвижности сродни козлиной прыти они оставались тощими, не суля больших выгод мясникам, да и шерсть они давали не столь качественную, чтобы приносить доход своим хозяевам. Такие районы и сегодня населены не очень плотно, а в прошлом веке, до того как в сельском хозяйстве стали применяться достижения науки, позволившие осваивать суровую природу болотистых пустошей, и появились железные дороги[8], в периоды охотничьего сезона доставлявшие издалека любителей охоты, которым требовалось жилье, народу здесь обитало еще меньше.
В долинах стояли старые каменные усадьбы; на пустошах виднелись разделенные длинными расстояниями убогие фермы с крошечными стогами низкосортного грубого сена и чуть более высокими кучами торфа во дворах, которым зимой отапливали дома. Коровы и быки, что паслись на пастбищах, принадлежавших этим хозяйствам, выглядели заморенными, но, как ни странно, морды у них, как и у тех черноголовых овец, были необычайно умные, что можно редко наблюдать у откормленных животных, которым обычно свойственно безмятежно-тупое выражение. Все ограждения представляли собой торфяные валы, поверх которых громоздились камни.
Редкие зеленые долины отличались сравнительно плодородными почвами и богатой растительностью. Вдоль ручьев тянулись узкие полоски лугов с сочной травой, которой, казалось, было вполне достаточно, чтобы коровы могли утолить голод, тогда как на гористых участках пастбища были скудные, и не стоило тратить силы на то, чтобы пускаться на их поиски. Правда, пронзительные ветры, дувшие по течению водных потоков, проникали даже в те райские «ямы», где они гнули и валили деревья, препятствуя их росту, но все равно там оставалось густое пышное мелколесье, сплетавшееся с зарослями куманики, а также малины розолистной (да-да!) и жимолости; и если фермер, проживавший в одной из этих более или менее благодатных лощин, имел жену или дочь, увлекавшихся садоводством, их дом, сложенный из необработанного камня, с западной или южной стороны утопал бы в цветах. Но в ту пору садоводство как искусство не пользовалось популярностью ни в каких районах Англии; на севере страны и по сей день не пользуется. Знать и мелкопоместное дворянство разбивали чудесные сады, но фермерам и поденщикам к северу от Трента[9] до них было мало дела, это я знаю наверное. Несколько «ягодных» кустиков, один-два куста черной смородины (листья клали в чай для усиления его вкуса, плодами лечили простуду и больное горло), картофельное поле (и на исходе минувшего века картофель не выращивали повсеместно, как теперь), посадки шалфея, мелиссы, тимьяна и майорана, может быть, еще розовый куст и «старичок»[10], где-то затесавшийся между ними; крошечная делянка с мелким репчатым луком и, может быть, с календулой, лепестками которой приправляли суп из говяжьей солонины, – из таких вот растений и состоял ухоженный сад-огород на обычной ферме в то время и в том краю, к которым относится мое повествование. Но и на удалении двадцати миль от воды море и морской промысел всюду напоминали о себе; останками ракообразных, водорослями, отходами топильных цехов удобряли почву; поля и пустоши усеивали, вздымаясь дугами над воротными столбами, пугающе огромные, обесцвеченные до белизны кости китовых челюстей. В каждой семье, в той или иной мере кормившейся от сельского хозяйства, один из нескольких сыновей непременно ходил в море, и его мать с тоской поглядывала в сторону побережья, следя за направлением ветра, завывавшего над пустошью. В праздники все устремлялись к морю; никому и в голову не приходило поехать в глубь острова, да и что там смотреть? – разве что посетить большую ежегодную конную ярмарку, которую устраивали в том месте, где дикие ландшафты сменяли населенные районы и возделанные поля.
В этом краю мысли о море не отпускали даже жителей самых глубинных частей острова, тогда как в других уголках страны за пять миль от океана никто уже и не вспоминал про существование такой стихии, как соленая вода. И тому главной, первостепенной причиной, вне сомнения, являлся гренландский промысел прибрежных городов. Но также в то время, о котором я пишу, умы всех и каждого терзали страх и тревога в связи с угрозой, исходившей из пограничного моря.
С окончанием Войны за независимость в Северной Америке отпала необходимость регулярно пополнять ряды военно-морских сил, и средства, выделяемые правительством на эти цели, с каждым годом мирной жизни урезались. В 1792 году размер таких ассигнований достиг минимума. А в 1793-м события во Франции воспламенили Европу, и англичан охватили антигалльские настроения, которые всеми возможными способами умело разжигали монархия и ее министры, подстрекавшие страну к активным действиям. Корабли у нас есть, но где же наши моряки? Однако Адмиралтейство, опиравшееся на богатую практику прецедентов, имело под рукой готовое решение и инструмент общего (пусть и не статутного) права, санкционировавшего его применение. Ведомство издавало «ордера на принудительную вербовку матросов», призывая гражданские власти по всей стране оказывать поддержку офицерам в исполнении их служебного долга. Морское побережье делили на территории под командованием капитанов военных кораблей, а те, в свою очередь, участки вверенных им территорий отдавали в ведение своих помощников. Таким образом, все суда, приписанные к тому или иному порту, а также сами порты находились под надзором, и при необходимости за один день удавалось пополнить военно-морской флот Его величества огромным количеством матросов. И, если возникала острая нужда в людях, Адмиралтейство поощряло самые беспринципные методы набора. Мужчин сухопутных профессий, годных к военной службе, очень быстро обращали в хороших моряков; и стоило им попасть на борт тендера[11], всегда ожидавшего успешного окончания вербовочных операций, эти пленники напрочь лишались возможности предъявить доказательства о роде своих бывших занятий, тем более что никто не удосуживался их выслушивать, а если и выслушивали, то не желали им верить, а если случаем выслушивали и верили, то не предпринимали никаких мер для их освобождения. Людей похищали, они исчезали в самом буквальном смысле слова, и больше от них не было ни слуху ни духу. От вербовочных отрядов не было спасения на улицах оживленных городов, как мог бы сказать лорд Терлоу[12]: однажды в ту пору, прогуливаясь по Тауэр-Хилл[13], он, генеральный атторней Англии, был схвачен вербовщиками и на собственной шкуре испытал то, как Адмиралтейство весьма оригинальными способами избавляется от докучливых заступников и просителей. Не более защищены от вербовщиков были и обитатели забытых хуторов в глубинных районах острова: многие селяне отправлялись на ярмарку труда искать работу, да домой так и не возвращались, а многие дюжие молодые фермеры исчезали прямо из отчего дома, и ни матери, ни возлюбленные о них больше не слышали, столь велика была потребность в матросах на военных кораблях в первые годы войны с Францией и после каждой славной победы на море в той войне.
Служащие Адмиралтейства подкарауливали купеческие и торговые суда. Известно много случаев, когда груженные товаром корабли, возвращавшиеся домой из дальнего плавания, останавливали в море на расстоянии дня пути до суши и забирали с них почти всех матросов. Судно с грузом по причине отсутствия экипажа становилось неуправляемым, и его снова уносило на широкие стихийные просторы океана, и порой его обнаруживали под беспомощным управлением одного-двух хилых или неопытных моряков, а то и вовсе не находили. Матросов, завербованных насильно, снимали с кораблей почти перед самым их возвращением домой, к родителям или женам, и зачастую они не получали своих кровью и потом заработанных денег, которые оставались в руках владельцев торговых судов, где они служили, подвергаясь всем рискам чести и бесчестья, жизни и смерти. Теперь нас удивляет, как мог быть возможен такой произвол (ибо более точного определения я не нахожу); мы не в силах понять, почему страна так долго подчинялась ему, пусть даже под влиянием энтузиазма военного времени, или боязни иноземного вторжения, или в силу верноподданнических настроений. Когда мы читаем о том, что военных присылают в поддержку гражданским властям для оказания содействия бригадам вербовщиков, об отрядах солдат, патрулирующих улицы, о караульных, вооруженных ружьями со штыками у двери каждого дома, каждого жилища, в которые врываются с обыском вербовщики; когда мы слышим о том, что военные окружают церкви и вербовщики хватают всех мужчин, покидающих храмы божии по окончании богослужения, и, зная, что это лишь отдельные примеры каждодневно творящегося произвола, мы не удивляемся сетованиям лорд-мэров и прочих представителей гражданских властей на то, что в больших городах замерла всякая трудовая деятельность, ибо ремесленники и их работники боятся покидать свои дома и выходить на улицы, кишащие вербовщиками.
То ли потому, что близость столицы – политического центра страны и главного источника новостей – у жителей южных графств стимулировала обостренное чувство своеобразного патриотизма, в основе которого лежит ненависть ко всем другим народам; то ли потому, что в южных портах был более высок риск оказаться жертвой принудительной вербовки и у торговых моряков притупилось чувство опасности; то ли потому, что многих мужчин из таких городов, как Портсмут и Плимут, влекла служба в военно-морском флоте, они считали ее почетной и полной ярких приключений, – но, так или иначе, несомненно одно: гнет насильственной вербовки южане переносили более смиренно, нежели горячий народ северо-востока. Ибо, в понимании последних, тот, кто допускал возможность дохода помимо заработка за занятие китобойным или гренландским промыслом, относился к самому презренному типу моряка. Любой из них благодаря отваге и накоплениям мог возвыситься до судовладельца – примеров тому множество. И уже одно это сглаживало различия между представителями высших и низших классов. А еще они вместе рисковали, вместе подвергались опасности, вместе увлеченно делали общее дело, что связывало обитателей этой части побережья крепкими узами, разрыв которых под давлением некой внешней силы вызывал праведный гнев и жажду мести. Один йоркширец однажды сказал мне: «Мои земляки все одинаковы. Только и думают, как выразить несогласие. Ба! Да я и сам, если слышу, что кто-то говорит „чудесный день“, ловлю себя на том, что ищу этому опровержение. И так во всем – в мыслях, в словах, в делах».
Посему не трудно представить, что вербовочным отрядам приходилось нелегко на йоркширском побережье. В других краях они сеяли страх, но здесь – только ярость и ненависть. 20 января 1777 года лорд-мэр Йорка получил анонимное письмо с предупреждением, что «личные покои его светлости, а также его официальная резиденция будут сожжены дотла, если те люди не уберутся из города до следующего вторника».
Возможно, отчасти такая враждебность была связана с тем, что я наблюдала в других городах, в которых сложилась аналогичная ситуация. Там, где земельные владения джентльменов старинных фамилий, но с ограниченным доходом расположены вокруг какого-то центра прибыльного промысла или производства, всегда существует скрытая неприязнь со стороны сквайров к предпринимателям, будь то производители товаров, торговцы или судовладельцы, которые обладают способностью зарабатывать и, не будучи обременены ни наследственной гордостью, ни джентльменской склонностью к ничегонеделанию, охотно пользуются этой способностью. В большинстве случаев эта неприязнь, разумеется, имеет негативную природу и, как правило, проявляется в отказе разговаривать и вообще иметь дело с такими людьми, в этаком пассивном вежливом игнорировании неприятных соседей. Однако китоловы Монксхейвена в последние годы того времени, о котором я пишу, столь дерзко и нагло преуспевали, монксхейвенские судовладельцы столь быстро богатели и набирались важности, и сквайры, жившие в праздности в старинных каменных усадьбах, разбросанных по лежащим вокруг пустошам, полагали, что удар, который политика принудительной вербовки почти наверняка нанесет по монксхейвенскому промыслу, предопределен силами свыше (сколь высоко находятся эти силы, судить не берусь), дабы воспрепятствовать чрезмерно стремительному обогащению, что идет вразрез с библейскими заповедями, а значит, они исполняют свой долг, поддерживая указы Адмиралтейства всей полнотой гражданской власти, что имеется в их в распоряжении, когда бы к ним ни обратились за помощью и когда бы они ни оказали содействие без особых хлопот для себя, тем более что лично их все это мало касалось.
Был еще один мотив, коим руководствовались некоторые расчетливые родители, имевшие по несколько дочерей. Капитаны и лейтенанты, служившие в военном флоте, в большинстве своем были весьма подходящие холостяки, воспитанные для благородных занятий, и посему становились – по меньшей мере! – очень желанными гостями, когда у них выдавался свободный денек; как знать, что из этого могло выйти?
По правде сказать, и в самом Монксхейвене эти бравые офицеры не были так уж непопулярны, за исключением тех случаев, когда они вступали в серьезный конфликт с местным населением. Им была присуща открытость, свойственная людям их профессии; все знали, что они участвовали в славных сражениях, рассказы о которых и сегодня способны растопить сердце квакера[14]; и они не афишировали свою роль в выполнении грязной работы, проводившейся, тем не менее, с их одобрения и по их тайному повелению. Мало кто из обитателей Монксхейвена, проходя мимо дешевой пивной, над которой развевался синий морской флаг, указывавший на то, что здесь собираются вербовщики, не плевал с отвращением в ту сторону; однако те же самые люди, бывало, не упускали случая в этакой грубоватой форме выразить почтение лейтенанту Аткинсону, встретив его на Главной улице. В этих краях не принято в знак приветствия притрагиваться к шляпе, но они изображали некое чудно́е движение головой – не покачивание и не кивок, – которое все равно подразумевало дружеское расположение. Судовладельцы тоже порой приглашали его на обед или на ужин, но при этом, всегда имея в виду, что вскоре он может стать их врагом, не позволяли ему вести себя «как у себя дома», даже если за столом сидели их незамужние дочери. И все же, поскольку Аткинсон умел рассказать забористую историю, умел хорошенько выпить и почти всегда принимал «срочные» приглашения, он ладил с жителями Монксхейвена лучше, чем можно было ожидать. А основное бремя людской ненависти, что вызывала его деятельность, несли его подчиненные, которые, по оценке простонародья, все, как один, слыли подлыми похитителями и коварными «стервятниками». И как таковые они были готовы при малейшем намеке на провокацию со стороны местных жителей преследовать и запугивать их, причем самих вербовщиков мало заботило, что о них думают. Какими бы словами их ни клеймили, это были отважные, смелые люди. Они опирались на закон, а значит, их действия были абсолютно правомочны. Они служили королю и отечеству. Им приходилось использовать все свои дарования, а это всегда доставляет удовлетворение. Такой простор для славных побед и торжества хитроумия, жизнь полная приключений. Они выполняли законную государственную задачу, и это требовало рассудительности, находчивости и мужества, к тому же утоляло эту непонятную страсть к охоте, что живет в каждом мужчине. В море, на удалении четырнадцати-пятнадцати миль от берега, стоял на рейде военный корабль «Аврора»; на него-то и доставляли живой груз несколько тендеров, прятавшихся в укромных местах вдоль побережья. Один, под названием «Бойкая леди», можно было видеть со скал, вздымавшихся над Монксхейвеном. Он находился недалеко от города, но вершины нагорья укрывали его от взоров горожан; ну и было еще заведение «Рандеву» (как прозвали в округе пивную с военно-морским флагом), где гуляла команда «Бойкой леди» и предлагали выпить излишне доверчивым прохожим. Вот и все, чем занимались вербовщики в Монксхейвене.