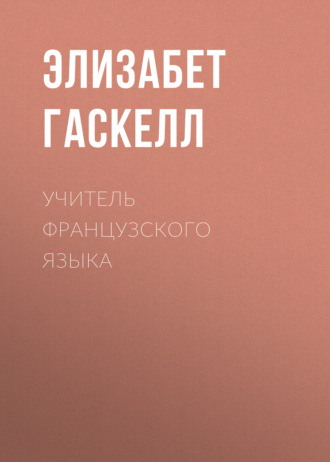
Элизабет Гаскелл
Учитель французского языка
За классным столом, было ли это в стенах дома; или в саду, мы были обязаны прилежно заниматься нашими уроками: он, – мы сами не знаем каким образом, – дал нам понять, что в состав его рыцарских правил входило и то, которое делало его таким полезным юношескому возрасту, для того, чтоб научить вполне исполнять малейшие требования долга. Полуприготовленных уроков он не принимал. Терпение и примеры, которыми он пояснял и утверждал в нашей памяти каждое правило, – постоянная кротость и благодушие, с которыми он заставлял наши упорные, не гибкие английские языки произносит, изменять, и снова произносить некоторые слова и, наконец, мягкость характера, никогда не менявшаяся, были таковы, что подобных им я никогда не видала. Если мы удивлялись этим качествам, будучи детьми, то удивление это приняло более обширные размеры, когда мы выросли и узнали, что, до своей эмиграции, он был человеком пылкого и необузданного характера, с недоконченным воспитанием, зависевшим от обстоятельств, что на шестнадцатом году он был подпоручиком в полку королевы и, следовательно, должен был, по необходимости, вполне изучить язык, которого впоследствии ему привелось быть учителем.
Сообразно с его печальными обстоятельствами, мы имели два раза в году каникулы. Обыкновенные же. каникулы не были для нас, как это всюду принято, о святках, в средине лета, о пасхе или в Михайлов день. В те дни, когда наша мама была особенно занята по хозяйству, у нас были праздники; хотя, в сущности, в подобные дни мы трудились более, чем над уроками: мы приносили что-нибудь, относили, бегали на посылках, становились румяными, покрывались пылью и в веселье наших сердец распевали самые веселые песни. Если день бывал замечательно прекрасен, добрый отец наш, настроение души которого имело необыкновенную способность изменяться вместе с погодой, – быстро входил в нашу комнату с своим светлым, добрым, загорелым лицом, и такой день приступом брал от нашей мама.
– Как не стыдно! восклицал он: – как не совестно держать детей в комнате, в то время, когда все другие юные существа резвятся на воздухе и наслаждаются солнечным светом. Небось, скажете, им нужно учиться грамматике? – вздор! – пустейшая наука, в которой трактуется об употреблении и сочетании слов, – да я не знаю женщины, которая бы не умела справиться с такими пустяками. – География! – хотите ли, я в один зимний вечер, с картой под рукой, чтоб показывать на ней земли, в которых я бывал, выучу вас больше, чем выучит в десять лет эта глупая книга, с такими трудными словами. – Французский язык – дело другое! – его нужно учить; – мне не хочется, чтоб мосьё де-Шалабр подумал, что вы неглижируете уроками, для которых он так много трудится; – ну да и то не беда! вставайте только раньше – вот и все!
Мы соглашались с ним в восторге. Соглашалась с ним и мама – иногда с улыбкой, иногда с неудовольствием. Эти-то убеждения и доводы давали нам праздники. Впрочем, два раза в году наши французские уроки прекращались недели на две: – раз в январе и раз в октябре. В эти промежутки времени мы даже и не виделись с учителем. Мы несколько раз подходили к окраине нашего поля, пристально всматривались в темную зелень окрестных лесов, и если б только заметили в тени их темную фигуру Мосьё де-Шалабра, я уверена, мы бы побежали к нему, несмотря на запрещение переходит через границу поля. Но мы не видели его.
В ту пору существовало обыкновение не позволять детям знакомиться слишком близко с предметами, имевшими интерес для их родителей. Чтоб скрыть от нас смысл разговора, когда нам случалось находиться при нам, папа и мама употребляли какой-то иероглифический способ выражать свои мысли. Мама в особенности знакома была с этим способом объясняться и находила, как нам казалось, особенное удовольствие ежедневно ставить в-тупик нашего папа изобретением нового знака или нового непонятного выражения. Например, в течение некоторого времени меня звали Марцией, потому что я была не по летам высокого роста; – но только что папа начал постигать это название, – а это было спустя значительное время после того, как я, услышав ими Марции, стала наострят свои уши, – мама вдруг переименовала меня в «подпорку», на том основании, что я усвоила привычку прислонять к стене свою длинную фигуру. Я замечала замешательство отца при этом новом названии, и помогла бы ему выйти из него, но не смела. По этому-то, когда пришла весть о казни Людовика XVI, слишком ужасная, чтоб рассуждать о ней на английском языке, чтоб знали о ней дети, мы довольно долго не могли прибрать ключ к иероглифам, посредством которых велась речь об этом предмете. Мы слышали, о какой-то «Изиде, которая погибла в урагане» и видели на добром лице нашего папа выражение глубокой скорби и спокойную покорность судьбе, – два чувства, всегда согласовавшиеся с чувством тайной печали в душе нашей мама.
В это время уроков у нас не было; и вероятно несчастная, избитая бурей и оборванная Изида сокрушалась об этом. Прошло несколько недель, прежде, чем мы узнали действительную причину глубокой горести мосьё де-Шалабра, и именно, в то время, когда он снова показался в нашем кругу; мы узнали, почему он так печально покачивал головой, когда наша мама предлагала ему вопросы, и почему он был в глубоком трауре. Мы вполне поняли значение следующего загадочного выражения: «злые и жестокие дети сорвали голову Белой Лилии!» – Мы видели портрет этой Лилии… Это была женщина, с голубыми глазами, с прекрасным выразительным взглядом, с густыми прядями напудренных волос, с белой шеей, украшенной нитками крупного жемчуга. Если б можно было, мы бы расплакались, услышав таинственные слова, значение которых мы постигали. Вечером, ложась спать, мы садились в постель, обняв одна другую, плакали и давали клятву отмстить за смерть этой женщины, лишь бы только Бог продлил нашу жизнь. Кто не помнит этого времени, тот не в состоянии представить ужаса, который, как лихорадочная дрожь, пробежал по всему государству, вместе с молвой об этой страшной казни. Этот неожиданный удар совершенно изменил мосьё де-Шалабро, – после этого событиям я уже более некогда не видала его милым и веселым, каким казался он прежде. После этого события, казалось, что под его улыбками скрывались слезы. Не видев мосьё де-Шалабра целую неделю, наш папа отправился навестить его. Лишь только он вышел из лому, как мама приказала нам прибрать гостиную, и по возможности придать ей комфортабельный вид. Папа надеялся привести с собой мосьё де-Шалабра, тогда как мосьё де-Шалабр желал более всего быть наедине с самим собою; с своей стороны, мы готовы были перетащить в гостиную свою мебель, лишь бы только усердие наше могло доставить ему комфорт.
Генерал Ашбуртон навестил мосьё де-Шалабра прежде моего отца, и приглашал его к себе, но без всякого успеха. Папа достиг своей цели, как впоследствии узнала я, совершенно неожиданно. Сделав предложение мосьё де-Шадабру, он получил от него такой решительный отказ, что потерял всякую надежду, и уже более не возобновлял своего приглашения. Чтоб облегчить свое сердце, мосьё де-Шалабр начал рассказывать подробности страшного события. Папа слушал, притаив дыхание…. наконец, доброе сердце его не выдержало и по лицу его покатились слезы. Его непритворное сочувствие сильно тронуло мосьё де-Шалабра… прошел час, и мы увидели нашего милого учителя на скате зеленого поля. Он склонился на руку папа, который невольно протянул ее, как опору страдальцу, хотя сам хромал и был десятью или пятнадцатью годами старше мосьё де-Шалабра.
В течение года после этого визита, я не видала, чтоб мосьё де-Шадабр носил цветы в петличке своего фрака; даже после того, по самый день смерти, его не пленяли более, ни пышная роза, ни яркая гвоздика. Мы тайком подметили его вкус и всегда старались подносить ему белые цветы для любимого букета. Я заметила также, что на левой руке, под обшлагом своего фрака (в то время носили чрезвычайно открытые обшлага), он постоянно носил бант из черного крепа. С этим бантом он и умер, дожив до восьмидесяти лет.
Мосьё де-Шалабр был общим фаворитом в лесистом нашем округе. Он был душой дружеских обществ, в которых мы беспрестанно принимали участие, и хотя иные семейства гордились своим аристократическим происхождением и вздергивали нос перед теми, кто занимался торговлей в каких бы то ни было обширных размерах, – мосьё де-Шалабр, по праву своего происхождения, по преданности своей законному государю, и, наконец, по своим благородным, рыцарским поступкам, был всегда почетным гостем. Он переносил свою бедность и простые привычки, которые она вынуждала, так натурально и так весело, как будто это был самый ничтожный случай в его жизни, которого не стоило ни скрывать, ни стыдиться, так что самые слуги, часто позволяющие себе принимать аристократический вид перед учителями, любили и уважали французского джентльмена, который, по утрам являлся в качестве учителя, а вечером – разодетый, с изысканной щеголеватостью, в качестве званого гостя. Походка его была легка. Отправляясь в гости, он перепрыгивал через лужи и грязь, и по приходе в нашу маленькую приемную, вынимал из кармана маленькую, чистенькую коробочку, с маленькой сапожной щеткой и ваксой, и наводил лоск на сапоги, весело разговаривая все это время, ломанным английским языком, с лакеями. Эта коробочка была собственного его произведения; – на вещи подобного рода, его руки были, как говорится, чисто золотые. С окончанием наших уроков, он вдруг превращался в задушевного домашнего друга, в веселого товарища в игре. Мы жили вдали от столяров и слесарей; но когда у нас портился замо́к, мосьё де-Шалабр починивал его; когда нам нужен был какой-нибудь ящичек или что-нибудь подобное, мосьё де-Шалабр приносил на другой же день. Он выточил мама мотовило для шелка, отцу шахматы, изящно вырезал футляр для часов из простой кости, сделал премиленькие куклы из пробки, – короче, говоря его словами, он умер бы от скуки без столярных инструментов. Его замысловатые подарки ограничивались не одними нами. Для жены фермера, у которого жил, он сделал множество улучшений и украшений по хозяйственной части. Одно из этих улучшений, которое я припоминаю, состояло в пирожной доске, сделанной по образцу французской, которая не скользила во столу, как английская. Сузанна, румяная дочь фермера, показывала нам рабочую шкатулку; а влюбленный в нее кузен удивительную трость, с необыкновенным набалдашником, представлявшим голову какого-то чудовища, – и все это работы мосьё де-Шалабра. Фермер, жена Фермера, Сузанна и Роберт не могли нахвалиться мосьё де-Шалабром.







