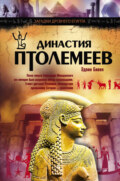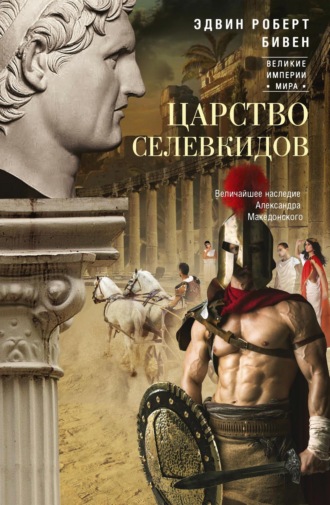
Эдвин Роберт Бивен
Царство селевкидов. Величайшее наследие Александра Македонского
Глава 4
События на Востоке, 321–316 гг. до н. э
Вавилония, у которой было столько общего с Египтом, отличалась от него одним, как к своей выгоде, так и невыгоде – своим центральным положением. Через Евфрат и Северную Сирию она соприкасалась со Средиземноморьем и Западом, в то время как несколько дней пути через долину отделяли Тигр на востоке от горной гряды, за которой вздымалось Иранское плато – Иран, где облик мира и обычаи людей так отличались от тех, что господствовали при реках вавилонских. Если человек хотел править всей империей Александра, то Вавилон был лучшим местом для правительства, чем Египет; если же, с другой стороны, правитель Вавилонии был недостаточно силен, чтобы надеяться на большее, чем просто независимость, он, конечно, должен был бы больше ввязаться в дела своих соседей, чем правитель Египта. Селевк должен был с тревогой следить за ходом событий в землях вокруг Средиземноморья, где, как казалось, восходила звезда Антигона, и в Иране, где македонские вожди, македонские и греческие армии все еще были сомнительным элементом.
Среди восточных сатрапов были два вождя первой величины: Пифон и Певкест. Оба принадлежали к внутреннему кругу из восьми соматофилаков, которые находились ближе всего к покойному царю. Эти двое людей были ключевыми персонажами в тот момент в Иране.
Пифон, сын Кратея из Алкомен в Эордее[29], получил сатрапию в Мидии при разделе в Вавилоне после кончины Александра. Ни у кого из тех, кто отправился в свои провинции, сердце не было настолько полно грандиозных прожектов; никто быстрее него не осознал перспектив для амбиций отдельной личности при новом положении вещей. Его провинция была самой важной в Иране. В Экбатанах располагалась столица первого иранского царства. При Ахеменидах они все еще продолжали быть одной из великих столиц империи, летней резиденцией персидских царей. Мидия считалась богатейшей из всех иранских провинций, как показывает цифра, в которую оценил ее Дарий[30]. Ее горные равнины были прекрасными пастбищами; они питали неисчислимые табуны коней – лучших в мире. На ее холмах поселились отважные племена, предки современных курдов, у которых правитель Мидии мог получить огромные ресурсы бойцов[31]. Для амбициозного человека владение Мидией открывало широкие возможности.
Правитель, восседавший в золотом дворце Экбатан, уже пользовался неким первенством среди сатрапов Ирана. Превратить это первенство в абсолютное господство над Ираном и отсюда ступить – куда? на трон Александра? – такие мысли, наверное, витали в уме Пифона. Первая возможность пришла к нему вскоре после смерти Александра во время восстания греков, размещенных на Дальнем Востоке. Регент Пердикка не только поручил Пифону подавить мятеж, но и послал большие подкрепления его войскам, и он получил полномочия обращаться к другим сатрапам Ирана за военной помощью. Именно тогда у Пифона появился план переманить взбунтовавшихся греков под свои знамена – этот план рухнул только благодаря хитрости регента, который передал мятежников македонцам как военную добычу[32].
С тех пор регент, судя по всему, счел разумным удерживать Пифона в своей собственной свите; такая перемена в положении Пифона объясняет то, что в 321 г. до н. э. он перебежал к Птолемею[33]. После убийства Пердикки Пифон становится сорегентом империи вместе с Арридеем. Затем, после раздела в Трипарадисе, когда Селевк отправился, дабы принять власть над Вавилонией, Пифон вернулся в Мидию, дополнительно повысив свой престиж.
Другим великим сатрапом Востока был Певкест из Мизы в Македонии. Пока он не стал восьмым из семи соматофилаков, Певкест нес перед Александром священный щит, взятый из храма Афины в Трое[34], и прикрывал собой Александра при штурме города маллов (современный Мултан). И свою сатрапию, Персиду, он получил от самого Александра: это была страна племени, правившего среди иранцев, с Пасаргадами, колыбелью дома Ахеменидов, и Персеполем, царским городом. Певкест от души принял участие в осуществлении столь дорогой сердцу Александра идеи – объединить македонскую и персидскую аристократию. Своей одеждой, языком, поведением он делал все, чтобы показать людям в провинции, что он один из них[35]. На момент кончины Александра его власть уже вполне укоренилась.
Амбиции Пифона были таковы, что он не мог ждать, когда плод созреет. Внезапно разлетелась весть, что он захватил прилегающую провинцию Парфия. Он устранил Филиппа, сатрапа, назначенного в Трипарадисе, и заменил его собственным братом Евдамом. Все прочие сатрапы почувствовали, что их владения находятся под угрозой, и быстро договорились об отражении агрессии Пифона. Движение против Пифона дало Певкесту возможность обеспечить себе лидерство, потому что среди них не было другой столь же значимой персоны. Так он и поступил, и его охотно признали вождем. Армии Ирана вторглись в Парфию под его командованием и выгнали Пифона из его провинции[36].
Пифон сначала ушел в Мидию, но и там он не мог чувствовать себя в безопасности. Теперь он появился с каким-то числом спутников в Вавилоне и обратился к Селевку, дабы объединиться с ним и разделить выгоду от этого. Положение было затруднительное. Интересы Селевка требовали, чтобы он держался подальше от этой смуты, пока не консолидирует свою власть. Однако в Вавилоне сделать это было нелегко. Он мог отказаться от предложения Пифона, однако на горизонте маячили новые затруднения. Проблемы на Западе должны были слиться с иранскими проблемами.
Кончина Пердикки оставила его партию, роялистскую, которая выступала за то, чтобы империя оставалась единым целым под центральной властью царского дома, очевидно, обреченной на гибель. Эвмен, который в любом случае был единственным выжившим ее защитником, остался изолированным в Малой Азии. И в следующем году после договора в Трипарадисе Антигон с величайшим успехом провел войну с Эвменом и запер его в каппадокийской крепости Нора (320 до н. э.). Затем неожиданно перспективы роялистской партии улучшились. В 319 г. до н. э. скончался регент Антипатр. Он завещал свою великую должность вождю по имени Полиперхонт. Именно эта передача высшей власти возродила роялистское дело: во-первых, Антигон теперь повел настолько мастерскую и независимую политику в Малой Азии, что многие, кто поддерживал его из-за страха перед Пердиккой, стали не меньше бояться Антигона. Например, Арридей, сатрап Геллеспонтской Фригии, и Клит, сатрап Лидии, скоро стали его врагами и тем самым – союзниками Эвмена и роялистами. Во-вторых, сын Антипатра, Кассандр, должен был занять место своего отца и ожесточенно противостоял новому регенту. Он объединился с Антигоном. Вследствие этого Полиперхонт был вынужден заключить союз с царицей-матерью Олимпиадой, чью власть поддерживали роялисты. Роялисты уже не были преследуемыми изгнанниками: на их стороне был регент империи.
Результат этих перемен вскоре увидели в Малой Азии. Осада Норы была снята; Эвмен снова был признан высшей властью в Македонии главнокомандующим Азией, и избранный корпус македонских ветеранов, «серебряные щиты», которым командовали Антигон и Тевтам, поступил под его командование. Он также по царскому указу захватил сокровища, которые были перевезены из Суз в Киинды в Киликии. В 318 г. до н. э. он оказался в Финикии и готовил флот, который должен был преследовать сторонников Антигона с моря.
Однако новые надежды роялистов были разрушены неблагоприятным событием – тем, что Антигон уничтожил флот Клита в Боспоре. Это совершенно нарушило планы Эвмена и даже сделало непрочным его положение в Финикии между Антигоном и Птолемеем. Однако этот поразительный человек, которого ни одна катастрофа не могла заставить полностью исчерпать свои ресурсы, обратил свой взгляд к другой области, где он мог нанести значимый удар. Он увидел, что положение в Иране, которое было создано конфедерацией против Пифона, можно повернуть к его выгоде. Союзные сатрапы фактически отождествили свои интересы с интересами роялистской партии. Мелкие вожди знали, что потеряют гораздо меньше, если будут до какой-то степени подчинены центральной власти, чем если их зверски проглотит Антигон или Пифон. Соответственно, примерно к моменту битвы в Парфии Эвмен двинулся к востоку и пересек Евфрат – очевидно, безо всякого сопротивления. Амфимах, сатрап Месопотамии, был его союзником[37]. Зимние квартиры (318–317 до н. э.) Эвмена разместились в пределах сатрапии Селевка, в некоторых деревнях, которые именовались «деревнями карийцев» (Καρῶν κώμαι)[38]. Вот что сталось с надеждами Селевка держаться подальше от всяческих схваток!
В Вавилонии не было сил, которые Селевк осмелился бы противопоставить «серебряным щитам» под командованием Эвмена. Эвмен провел зиму в этих деревнях безо всякого беспокойства и призвал через вестников Селевка и Пифона прийти на помощь царям. Эти вожди все еще считали, что союз с Эвменом, презренным греком, невозможен, и отказались видеть в нем представителя царей. Однако послания, которые он отослал союзным сатрапам, встретили благожелательный прием. Его послание нашло объединенную армию, которая разбила Пифона, все еще нераспущенной. Эвмен решил, что окрестности Сузы станут местом, где весною он встретится со своими войсками.
Агенты Селевка и Пифона тщетно пытались зимой поколебать верность «серебряных щитов», и весной (317 до н. э.) армия Эвмена двинулась в путь. Селевк скоро узнал, что тот разбил лагерь на берегах Тигра лишь в 34 милях от Вавилона. Фактически Эвмен приблизился к Вавилону больше, чем позволяла безопасность. Он уже истощил страну между двумя реками и мог найти припасы, лишь перебравшись на восточную сторону Тигра. И здесь, столь близко к столице, Селевк вполне мог сделать переход через реку практически неосуществимым. Но Селевк, со своей стороны, совершенно не хотел, чтобы враждебная армия, к тому же включавшая в себя «серебряные щиты», находилась у него под дверью. Заблокировать продвижение армии было для него столь же опасно, как позволить ей продвигаться дальше, в Сузиану. Все было бы хорошо, если бы только он мог убедить «серебряные щиты» дезертировать, и в таком безвыходном положении он отчаянно уцепился за эту призрачную надежду. Он послал посольство на кораблях, которые Александр построил в Вавилоне как раз перед своей кончиной, чтобы они сделали эту последнюю попытку; но «серебряные щиты» остались верны Эвмену. Тогда агенты Селевка попробовали более убедительный метод принуждения. Они открыли древний канал, который уже занесло илом, и лагерь Эвмена затопило. Эвмен оказался в тяжелом положении. На следующий день его войска, значительно превосходившие посланные Селевком силы, захватили плоскодонки, в которых прибыли последние, и большей части армии удалось пересечь реку. На следующий день местный житель показал ему, как можно осушить воду, и, когда командиры Селевка увидели, что он начал это делать, они перестали оказывать какое-либо сопротивление переправе.
Селевк никогда (если картина, приведенная выше, верна) не жаждал задержать его, но альтернативой было только позволить Эвмену и сатрапам объединиться. Объединенная сила, безусловно, могла его раздавить. Чтобы встретить эту опасность, Селевк был вынужден обратиться к Антигону.
Сам Антигон уже находился в Месопотамии, преследуя Эвмена, когда его нашли вестники Селевка. Фактически он перезимовал там, надеясь, что, когда весна позволит продолжать боевые операции, он сможет встретиться с Эвменом до того, как тот объединится с сатрапами. Для этого было уже слишком поздно, и он был вынужден на некоторое время оставаться без движения в Месопотамии, набирая новых рекрутов для грядущей кампании. Летом 317 г. до н. э. он наконец прибыл в Вавилон и составил план совместных с Селевком и Пифоном операций. Каждый предоставил свои контингенты. Затем вся армия с тремя полководцами пересекла Тигр, и началась новая фаза великой войны диадохов.
В наши задачи не входит следовать за всеми их передвижениями. Сатрап Вавилонии уже на ранней стадии прекратил действовать совместно с основной армией. Первой целью Антигона стали Сузы, и до них он добрался беспрепятственно. Однако союзные сатрапы оставили там гарнизон, который должен был удерживать крепость и хранить сокровищницу. Антигон, уже принявший высшую власть, предписал Селевку присоединить сатрапию Сузиана к своей и оставил ему подразделение, чтобы подавить войска в крепости, пока он сам идет на Мидию. Ксенофил, командир гарнизона, видимо, не был настроен сопротивляться особенно ожесточенно. В любом случае мы видим, что год спустя он продолжал занимать свой пост хранителя сокровищницы, но теперь он уже стал подчиненным Селевка.
В течение года с того дня, как Антигон перебрался через Тигр, взаимная ревность сатрапов и предательство «серебряных щитов» привели Эвмена в руки его врагов. Антигон казнил его. Таким образом, роялистская партия в Азии была уничтожена. Антигон теперь господствовал во всей стране от Средиземноморья до Центральной Азии. Тогда македонские аристократы, которые с таким недовольством шли за Эвменом, поняли, что с его исчезновением основная опора их защиты рухнула.
Эвдам (не брат Пифона, а убийца царя Пора), человек, чьи 120 слонов придавали ему вес среди союзных сатрапов, был среди первых, кто погиб по слову Антигона. Антигон, один из командиров «серебряных щитов», ставший сатрапом Сузианы в Трипарадисе, был сожжен заживо. Но новый господин Азии не терпел не только своих недавних конкурентов. С ними, если они не могли причинить ему особых неприятностей в будущем, он еще мог договориться. Обречены были не те, кто сражался за дело царей, а те, у кого была какая-то власть или престиж, которые могли бы угрожать новой монархии.
Например, не осталось места в мире одновременно для Антигона и Пифона. Зимой (317/316 до н. э.) Антигон разместил свои войска в Мидии, и Пифон быстро занялся секретной работой среди них. Антигон не осмелился открыто атаковать предполагаемого союзника. Поэтому он заманил его на «дружеские» переговоры и затем немедленно приказал казнить его. Чтобы владение Мидией не позволило кому бы то ни было строить те же планы, что и Пифон, Антигон установил над ней двойную власть (по системе Александра), назначив местного сатрапа и одновременно македонца, который должен был командовать войсками.
Захватив слитки драгоценных металлов в сокровищницах Экбатаны и содрав с дворца серебряную черепицу[39], Антигон перебрался в Персиду. Здесь, в доме ахеменидских царей, он решил заново распределить восточные сатрапии. Пока сын Александра был жив, он не решился принять титул царя, но фактически он был царем Азии, и местные жители принимали его с царскими почестями. Действительно, для него было бы опасно злоупотреблять своей властью в более далеких провинциях, куда его оружие никогда не приближалось и чьи сатрапы – как македонцы, так и местные жители – пользовались любовью своих подданных. Сатрап Арии был заменен протеже Антигона. Амфимаха, сатрапа Месопотамии, который присоединился к Эвмену, заменил некто Блитор[40]. Более отдаленным провинциям было разрешено сохранить свое правительство.
Теперь, когда уже не было Пифона, Певкест остался самым опасным соперником Антигона на Востоке; осталось разобраться с ним. Судя по всему, пребывание Антигона в Персиде дало ему понять, насколько велика была популярность Певкеста среди его местных подданных и насколько тревожащей была его сила. Антигон объявил о его смещении. Это немедленно подняло целую бурю. У одного персидского аристократа достало смелости сказать Антигону в лицо, что персы не будут слушаться никого другого. Анитигон велел казнить этого человека, но он счел разумным не использовать никакого насилия против Певкеста. Напротив, он решил выманить его из страны заманчивыми обещаниями. Может быть, Певкест ему и поверил; может быть, он думал, что наиболее безопасно для него будет согласиться со всем, что предложит Антигон. В любом случае с этого момента он бесследно исчезает со страниц истории. Вместо него Персидой стал править сильной рукой правитель, назначенный Антигоном.
Теперь пришло время Антигону обратить свое внимание на Запад. Он отправился туда через Сузиану. Перебравшись через Паситигр, он встретился с Ксенофилом, хранителем города Сузы. Ксенофил объяснил, что Селевк, правитель страны, приказал ему предоставить царские сокровища в распоряжение Антигона. И теперь Антигон наложил руки на сказочные сокровища «дворца Шушан». Вьющаяся виноградная гроздь из золота, которая столь же занимала воображение греков, как воображение наших отцов – украшенный павлинами трон Великих Моголов, стала его собственностью. Когда он ушел из Суз, 5000 талантов, которые он привез из Экбатаны, превратились в 25 000.
Селевк был последним оставшимся к востоку от Евфрата правителем, которого Антигон мог считать своим соперником. Сатрап Вавилонии усвоил уроки, которые преподали ему судьбы Пифона и Певкеста. Должно быть, он горько ощущал на себе различие между своим положением и положением Птолемея в Египте. Он сделал все, что было в его силах, чтобы не вмешивать свою провинцию в военные столкновения, и теперь он должен был задать себе вопрос, удастся ли ему удержать ее вообще. Удерживать Вавилонию военной силой против Антигона было невозможно. Его единственным шансом было примириться с завоевателем, и если бы ему это не удалось, то Селевку оставалось только выйти из игры и спасать свою жизнь в надежде дождаться более счастливых времен.
Армия Антигона с огромным обозом из телег и верблюдов, которые везли добычу с Востока, двинулась из Суз на Вавилон. Но отправлению в путь предшествовала зловещая перемена в настроении Антигона. Провинцию Сузиана, которую в тяжелой военной ситуации он передал Селевку, он снова забрал у него и передал местному правителю. Селевк принял в Вавилоне Антигона и его войска со всеми любезностями и роскошными развлечениями, какие только могли погасить его подозрения. Но он был начеку, ожидая малейшего знака враждебности со стороны Антигона, дабы избежать судьбы Пифона. Долго ждать ему не пришлось. Антигон, заявив, что какой-то его поступок был-де нарушением порядка, попросил его отчитаться за свое управление. Селевк не мог согласиться с таким требованием, не отказавшись полностью от всех притязаний на независимость. Он затянул эту дискуссию на несколько дней, и, пока Антигон, несомненно, ожидал чего-то такого, что могло бы стать удобным предлогом для ареста, Селевк внезапно исчез. Он скакал, спасая свою жизнь, с пятьюдесятью всадниками в Египет – единственное безопасное место; Птолемея считали человеком великодушным. Возможно, он вспомнил о том, что тот самый человек, от которого он теперь бежал, сам таким же образом бежал от Пердикки.
Глава 5
Селевк завоевывает Восток
Прошло семь лет с кончины Александра, и Селевк после всех этих лет оказался лишенным земли беглецом. В общем и целом эти годы сделали все положение намного более простым. Старый царский дом Македонии стал практически пренебрежимой величиной, хотя мальчик Александр был все еще жив и его называли царем. Ибо на Западе 316 и 317 гг. до н. э. также завершили судьбу царского дома. Во-первых, вследствие катастрофического сражения на Боспоре в 317 г. до н. э. Греция по большей части была вырвана из рук регента Полиперхонта Кассандром. Затем раскололась и сама роялистская партия – что ввиду двойной царской власти было вполне естественно. Цари – мальчик и простофиля – были пустым местом, однако Олимпиада, бабушка маленького Александра, и Эвридика, супруга Филиппа, ожесточенно противостояли друг другу. Регент принял участие в планах Олимпиады, и в 317 г. до н. э. и Филипп, и Эвридика были уничтожены. Номинальное правление теперь оказалось в руках одного Александра. До конца 317 г. до н. э. Кассандр напал на саму Македонию. Убийство Филиппа и Эвридики сделало саму страну враждебной Олимпиаде и Полиперхонту. Когда наступила зима, регент был скован войсками Кассандра в Азоре, а Кассандр осаждал царское семейство в Пидне. Весной 316 г. до н. э. Пидна пала. Царь попал в руки Кассандра. Вскоре он стал хозяином Македонии, а Олимпиада была казнена.
Ситуация упростилась не только из-за подавления царского дома. В ходе борьбы македонских вождей осталось четверо – наиболее приспособленные или самые удачливые. Остальные или ушли со сцены, как Пердикка и Эвмен, Пифон или Певкест, или согласились остаться в подчиненном положении по отношению к одному из четверых, как новые сатрапы на Востоке под властью Антигона и Селевк под властью Птолемея. И из этих четырех Антигон занимал положение, затмевавшее всех остальных. Его власть простиралась над всей Азией от Средиземноморья до Хорасана, в то время как из остальных трех Птолемей владел только Египтом и Северной Сирией, Кассандр имел только что укоренившуюся и ненадежную власть над Македонией, а Лисимах поддерживал свою независимость в полуварварской стране Фракии.
Произошла любопытная перемена в положении Антигона: теперь он оказался практически наследником Пердикки. Пока принцип одного центрального правительства в империи означал, что над ним будет какой-то властитель, амбиция ставила его среди противников этой власти; когда его амбиции поднялись выше, они сделали его теперь защитником этого принципа – с той только разницей, что теперь это центральное правительство было его собственным. Соответственно, вскоре он оказался в состоянии войны со своими старыми союзниками и заключил союзы с множеством старых врагов, остатками роялистской партии. История следующих четырнадцати лет (315–301 до н. э.) – это история долгого сражения Антигона за Македонию.
До того как Антигон вернулся на Запад в 315 г. до н. э., Птолемей, Кассандр и Лисимах решились на совместные действия. Наши источники утверждают, что значительную роль в создании этого альянса сыграл Селевк, но другим трем вождям, возможно, почти не нужно было объяснять, что надо остерегаться Антигона[41]. Их посланники встретились с Антигоном весной 315 г. до н. э. в Северной Сирии и изложили ему требования, которые они выставляли как его союзники в последней войне против роялистов. Среди этих требований были разделение завоеванной территории в Азии, восстановление власти Селевка в Вавилонии и возвращение ему захваченных сокровищ. Антигон с презрением отверг эти требования. Затем обе стороны стали готовиться к битве. Народы Азии увидели свидетельство решительности своего монарха по всем большим дорогам: через определенные интервалы были устроены станции для быстрого сообщения, на вершинах сделали маяки[42].
Война с Антигоном, по крайней мере в том, что касалось Селевка, распадается на две фазы. В первой (315–312 до н. э.) Селевк был просто подчиненным, «одним из князей» Птолемея[43], как описывает его книга Даниила. Мы слышим, что он командовал флотом Птолемея, который в 315 г. до н. э. угрожал побережью Ионии, в то время как Антигон решился стать хозяином морей в качестве предварительной меры перед нападением на Македонию[44]. Вскоре Селевк оказался на Кипре вместе с братом Птолемея Менелаем, сражаясь со сторонниками Антигона на этом острове[45]. В следующем году (314 до н. э.)[46] он опять оказался в Эгейском море. Эти операции, составлявшие часть плана кампании, в которой Селевк не был главнокомандующим, мы далее обсуждать не будем.
Затем пришел 312 г. до н. э. – великий год Селевка, начальный пункт его эры, которая была установлена царями из его династии на Востоке и все еще использовалась как «греческий год» долгое время после того, как династия Селевкидов перестала существовать. Весной этого года Антигон был в Малой Азии, считая, что путь на Европу по меньшей мере открыт. Чтобы уберечься от атаки из Египта с фланга, его сын Деметрий – блестящий и распущенный человек, к карьере которого можно особенно удачно применить банальное сравнение с метеором, – остался с армией, чтобы удерживать Киликию и Сирию. Южная Сирия (Палестина), так же как и Северная, в тот момент была занята войсками Антигона; войска Птолемея были изгнаны в 315 г. до н. э., в самом начале войны. На совете у Птолемея было решено, что настало время для наступления. Селевк, согласно нашим источникам, был основным сторонником этой меры[47]. Большая армия под предводительством Птолемея и Селевка двинулась через пустыню на Палестину. На пороге этой страны, близ Газы, их встретил Деметрий. Произошло решительное сражение – одна из великих битв этого времени. Деметрий был полностью разбит. Тогда Сирия была потеряна для Антигона. Его поход на Македонию был остановлен; ему пришлось перестраивать весь свой план действий. Это был самый серьезный удар, который был нанесен Антигону с начала войны.
Но в конечном счете последствия этой битвы оказались более значимыми, чем ее непосредственный исход. Теперь у Селевка появился шанс, и он мгновенно им воспользовался. Непосредственно после битвы он получил от Птолемея, который благоприятно отнесся к его предприятию, отряд из 800 пехотинцев и 200 всадников, и с ними он отправился отвоевывать свою старую провинцию – Вавилонию. Небольшой отряд пошел по дороге, которая пересекала Евфрат в Северной Сирии. Даже для возвращения одной провинции эта сила, казалось, была смехотворно мала. О спутниках Селевка нам рассказывают, что по дороге у них появились дурные предчувствия. Они стали сравнивать себя с огромной силой, против которой собрались сражаться. Но Селевка было не запугать. История этих судьбоносных дней – так, как она была изложена автором, за которым следовал Диодор, история, рассказанная тем, кто смотрел на нее в свете последующих триумфов, – окружена неким пророческим ореолом. Селевк был уверен в своей судьбе. Он напомнил своим спутникам о падении Персидской державы перед лицом Александра, превосходившего персов знаниями. На самом деле он был прав, понимая, на сколь шатких основаниях покоятся монархии (таких Восток видел очень много), которые удерживаются лишь военной силой, не скрепленные цементом нации. Рассказчик далее заставляет Селевка поддерживать отвагу своих спутников с помощью оракула Дидимского Аполлона, приветствовавшего его как царя, и видения Александра. «Он также изложил им, что все, что люди почитают и чем восхищаются, достигнуто трудами и опасностями»[48]. В этом случае некоторые идеализированные черты вполне оправданы. Действительно, именно в таком виде эти дни запечатлелись в памяти людей.
Отряд Селевка перебрался через Евфрат и оказался в Месопотамии; он появился под Каррами – старым городом на большой дороге между Сирией и Вавилоном, где была расположена колония македонских воинов. Некоторые из них были готовы немедленно присоединиться к командиру с такой репутацией, как у Селевка, а остальных было недостаточно много, чтобы они могли успешно сопротивляться. С такими подкреплениями Селевк пересек всю Месопотамию и вошел в Вавилонию. Надежды, которые он питал, – что труд, совершенный им в прошедшие четыре года, все еще дарил ему расположение народа – не были тщетны. Сатрап, назначенный Антигоном, Пифон, сын Агенора, был с Деметрием в Газе и пал на поле боя[49]. Местные жители стекались под знамена своего старого правителя. Один из македонских управителей перешел на его сторону с более чем 1000 человек. Сторонников Антигона смело это народное движение; они затворились под командованием некоего Дифила в одном из дворцов-цитаделей Вавилона. Тут они все еще удерживали в качестве заложников тех, кто были приверженцами Селевка и составляли его свиту во время его правления[50]. Однако Селевк атаковал и захватил дворец и спас всех, кто был на его стороне.
Именно этот момент цари-Селевкиды считали датой рождения их империи.
Селевк снова стал править в Вавилоне. Но при этом он должен был ожидать, что его положению вскоре будет брошен вызов; и он серьезно занялся тем, чтобы сформировать силы обоих родов войск и утвердить свое влияние среди местных жителей и обитавших здесь македонцев. Антигон был лично занят на Западе, но он оставил командование всеми восточными провинциями в руках сатрапа Мидии Никанора, который наследовал мидийцу Оронтобату[51]. Вскоре Никанор отправился в Вавилон с внушительным отрядом, набранным в различных областях Ирана: там было более 10 000 пехотинцев и 7000 всадников. Селевк мог противопоставить ему лишь 3000 пехотинцев и 400 всадников. Однако этот недостаток он восполнял мобильностью: Селевк пересек Тигр до того, как туда добрался Никанор, захватил его полностью врасплох и обратил в бегство. Эвагр, сатрап Персиды, был одним из павших в этой схватке. Армия Никанора целиком перешла к Селевку. Самому Никанору едва удалось спастись в пустыню с горсткой приверженцев; так он добрался до своей сатрапии.
В результате этого сражения Восток немедленно открылся для Селевка. Теперь стало очевидно, насколько призрачным фактически было господство Антигона на Востоке. Греческие и македонские гарнизоны, посредством которых назначенные им правители удерживали Мидию, Персиду, Сузиану и Вавилон, были вполне готовы, если это казалось выгодным, перейти с его службы на службу Селевку. Местные жители, несомненно, с сожалением вспоминали старых правителей, которых забрал у них Антигон. Сатрапов дальних провинций он на деле так никогда и не покорил[52]. Селевк, видимо, практически немедленно аннексировал Сузиану, а возможно, и Персиду, чей сатрап погиб. Затем он пошел на саму Мидию, дабы напасть на Никанора в его собственной провинции.
Между тем на Западе Антигон, которому битва при Газе послужила предупреждением, решился уже не оставлять Птолемея в покое. Он снова занял Палестину и в качестве предварительной меры перед вторжением в Египет попытался покорить набатейских арабов, которые контролировали путь через пустыню (311 до н. э.). Не слишком в этом преуспев, он едва сумел с ними договориться, когда к нему пришло сообщение от Никанора, которое объяснило, в каком отчаянном положении находятся дела на Западе. Антигон, даже рискуя потерять Восток, практически не мог выделить войска сколько-нибудь надолго ввиду того, сколь сложной была ситуация на Западе. Но он решился попробовать, чего можно достичь одним внезапным ударом по центру власти Селевка. Антигон передал 15 000 пехотинцев и 4000 всадников Деметрию, приказав ему совершить набег на Вавилонию, вернуть провинцию и возвращаться как можно скорее. Деметрий собрал этот отряд в Дамаске и быстро двинулся на Вавилонию через Месопотамию[53].
Селевк оставил в Вавилоне командующим на время своего отсутствия офицера по имени Патрокл: несомненно, это тот же человек, о котором позднее мы слышим как о главном советнике царя и исследователе Центральной Азии. Патрокл узнал, что Деметрий идет на него из Месопотамии. Патрокл понимал, что его войско слишком мало, чтобы рисковать и вступать в сражение. Но в любом случае он хотел спасти армию от поражения или от перехода на сторону врага и приказал значительной части своего отряда найти убежище в пустынях к западу от Евфрата или в болотах на берегу Сузианы; сам он с небольшим подразделением двигался по провинции, наблюдая за врагом. В то же самое время он постоянно информировал Селевка, находившегося в Мидии, о том, что происходило.