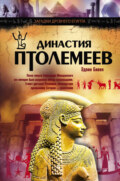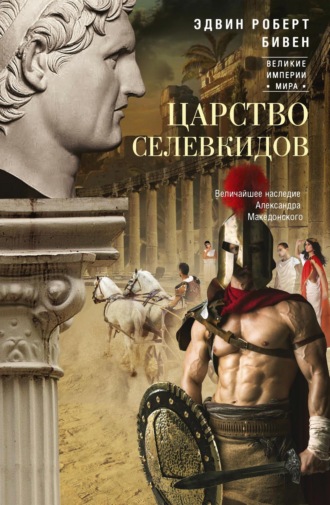
Эдвин Роберт Бивен
Царство селевкидов. Величайшее наследие Александра Македонского
Глава 3
Пердикка
Трудно было бы назвать какой-либо другой период в истории продолжительностью в десять лет, помимо царствования Александра, когда столь огромная перемена произошла на таком большом пространстве Земли – изменение, которое до такой степени переменило бы положение вещей. Внезапно пышность величайшей из когда-либо известных империй была сметена прочь. И сила, занявшая ее место, руководилась идеями совершенно новыми для большой части человечества, идеями, которые до сих пор имели хождение лишь в крошечных эллинских республиках. Весною 323 г. до н. э. весь порядок вещей от Адриатики до самых гор Центральной Азии и пыльных равнин Пенджаба основывался на воле одного человека, одного мозга, вскормленного эллинской мыслью. Затем рука Божия, словно проводя какой-то фантастический эксперимент, устранила этого человека. Кто в тот момент мог бы предсказать, каков будет исход? (Май или июнь 323 г. до н. э.)
Хозяина больше не было, но инструмент, с помощью которого он работал, новая сила, которую он выковал, – македонская армия все еще оставалась непревзойденной. Пока было всего лишь нужно завладеть ею, чтобы править миром. Македонские вожди собрали общий совет рядом с телом умершего царя. Для них всех те перспективы, которые открывал этот внезапный поворот дела, должно быть, казались в то время смутными и странными; их посещали лишь авантюристические надежды и туманные амбиции. Вопросом, требовавшим немедленного внимания, было то, кого поставить во главе империи. Это должна была быть особа из царского дома – в этом все были согласны. Однако царский дом не предлагал блестящего выбора: Филипп Арридей, полоумный сын великого Филиппа от жены-фессалийки; все еще не родившийся сын Александра и иранской принцессы Роксаны (если это оказался бы сын) и Геракл, сын Александра и персиянки Барсины, мальчик, которому было около трех лет. Кандидатуру последнего серьезно пока не предлагали, поскольку, очевидно, считали его незаконным[12]. Никто из того огромного населения, над которым предстояло править новому царю, не имел никакого голоса в выборе правителя. Македонцы разбили свой лагерь на вавилонских равнинах; это были люди, которые за одиннадцать лет до того ничего не знали вне узких границ своей собственной земли, а теперь они выбирали царя для половины мира столь же безраздельно, как если бы это был только царь македонцев, как в прежние времена. Немедленно возникли раздоры. Кавалерия, как говорят наши источники, решилась ждать сына, которого, как надеялись, должна была родить Роксана; пехота была настроена поставить Филиппа Арридея. Это различение кавалерии и пехоты было не только лишь военным, но и социальным. Точно так же, как средневековый рыцарь находился на более высокой ступени общества, нежели пехотинец, так и мелкие аристократы Македонии следовали за царем в качестве воинов, его «товарищей» (гетайры); обычные пехотинцы набирались из крестьянства. Есть указания на то, что прежде всего узко мыслящие и откровенные македонские копейщики, менее, нежели стоявший над ними класс, открытые либеральным влияниям и большим идеям, почувствовали некоторое отчуждение после бесконечных маршей Александра и тех восточных атрибутов, которыми он себя окружил. Образцом царя для них был все еще царь Филипп; они не хотели бы видеть, чтобы сына их старого хозяина обошли в пользу полуварвара, все еще лишь вероятного наследника Александра. Более того, они ничего бы не выиграли (в отличие от многих аристократов) от раскола империи, и они подозревали, что предложение подождать до родов Роксаны скрывало план вообще лишить империю своего главы. Только тогда, когда дело дошло почти до кровопролития, диспут разрешился посредством компромисса. Филипп Арридей и сын Роксаны должны были править совместно. Пердикка, член старого правящего дома македонской области Орестида, главный из всех вождей, собравшихся в Вавилоне, должен был стать регентом.
Было и много других великих князей и полководцев в царстве – в Вавилонии, в Македонии, в провинциях, которых смерть Александра навела на новые мысли. Удержится ли империя и, если так, каково будет их положение в ней? Развалится ли она на куски и, если так, на что каждый из них сможет наложить руки? За соглашением между кавалерией и пехотой последовало распределение сатрапий. Не говоря уже о возможности добиться большего, никакой заметный человек не мог чувствовать себя в безопасности в грядущие времена, не располагая какой-либо собственной силой. И ни одна сила не могла быть прочно основанной, если бы она не обладала территориальной поддержкой – базой для боевых действий и источником дохода. Именно такие соображения заставили теперь многих из великих вождей, чьи должности доселе были чисто военными, желать управления какой-либо провинцией. Первым, кто ясно увидел, чего требуют новые условия (как говорят нам наши авторы), был Птолемей, сын Лага, самый хладнокровный и рассудительный из полководцев Александра. Именно он, как свидетельствуют они, первым предложил перераспределение сатрапий и завоевал расположение регента, представив это решение как бывшее в интересах последнего, дабы устранить возможных соперников на некоторое расстояние от себя. В любом случае как база, которую можно было защищать и как источник дохода, ни одна сатрапия не могла быть выбрана более мудро, чем та, которую он выделил для себя, – Египет, огражденный безводными пустынями и практически лишенными гаваней берегами, и в то же самое время исключительно богатый, выходивший на Средиземноморье и предназначенный для того, чтобы превратиться в один из величайших торговых путей мира. Однако по большей части новый план был подтверждением статус-кво: единственными новыми назначениями, которые мы должны здесь отметить, были назначение Евмена, греческого секретаря Александра, в Каппадокию, Пифона, сына Кратея, – в Мидию и Лисимаха во Фракию.
Среди заметных фигур великого собрания в Вавилоне тем самым летом 323 г. был один, кто в этой книге заслуживает нашего особого внимания, – могучий юный офицер хорошего македонского происхождения, примерно одного возраста с умершим царем, который завоевал себе честь при Александре, как и его отец Антиох до него – при Филиппе. Звали этого молодого человека Селевком. Он сопровождал царя, когда тот первый раз вступил в Азию в 334 г. до н. э. В индийской кампании 326 г. до н. э. он получил один из верховных командных постов. Его служба (оставшаяся для нас незасвидетельствованной) среди холмов Афганистана и Бухары, несомненно, показала острому взгляду Александра большие способности подчиненного. Он был командиром царских гипаспистов и состоял в штабе царя. При пересечении Гидаспа в одном корабле были Александр, Птолемей, Пердикка, Лисимах и Селевк – очень значимый момент, если вспомнить позднейшую историю этих пяти людей, – и в битве с царем из династии Пауравов, последовавшей за этим, Селевк сражался во главе своего подразделения[13].
В следующий раз мы слышим о нем два года спустя (324 до н. э.) во время великого брачного праздника в Сузе, когда Александр, вернувшись из Индии, взял в жены дочь Дария и сделал так, чтобы все его полководцы женились на иранских царевнах[14]. Невеста, которая досталась на долю Селевка, показывает, насколько высокое место командир гипаспистов занимал в кругу царя. Среди наиболее ожесточенных противников наступления Александра были два великих князя дальнего Ирана – Спитамен и Оксиарт. Когда Александр захватил горную крепость Оксиарта, в его руки попала семья этого вождя. Тогда Оксиарт заключил мир. Его союзник Спитамен уже погиб. Дочь Оксиарта, Роксана, была главной царицей Александра; дочь Спитамена, Апама, в Сузах была выдана за Селевка.
Как любопытный факт уже было отмечено, что из восьми или девяти персидских царевен, упомянутых в связи с этим, только две фигурируют в более поздних источниках[15]. Одним из этих исключений, однако, является Апама. Нет никаких сомнений, что ее брак с Селевком не был фиктивным. Она стала матерью его наследника, и ее муж, согласно Аппиану, основал три города, которые носили ее имя[16]. Династия Селевкидов, один из корней которой был в Македонии, другим уходила в древние роды Восточного Ирана.
Селевк не был одним из главных деятелей в событиях следующих десяти лет. Но среди фигур второго плана он играл роль, которая снова и снова останавливает на себе наше внимание. Даже если бы это было не так, все равно было бы необходимо сделать общий обзор хода этих событий, чтобы понять ситуацию, когда настало время Селевку выступить на первый план в качестве главного героя. Первое, что сразу обращает на себя наше внимание, когда мы читаем историков этой эпохи, – то, что история мира, как кажется, превратилась в историю македонской армии и ее вождей. Но уже в 323 г. до н. э. два эпизода показывают, что господство македонской армии должно было сократиться и что элементы старого мира, которые она заменила, возможно, преуспеют в том, чтобы вернуть себе свое место. Империя Александра подавила старый варварский Восток; подавила она и старую свободную Элладу. При кончине царя первый еще не шевельнулся; не было никаких непосредственных попыток со стороны восточных народов стряхнуть иго македонцев. Однако как на Востоке, так и на Западе эллины считали, что они вернули себе прежнюю свободу. В самой Греции Афины призвали города к оружию и началась Ламийская война, или же, как греки сами называли ее, Эллинская война. На Дальнем Востоке эллины, которых Александр массово переместил в Бактрию, решились повторить подвиг Ксенофонта и пойти домой через Азию. Большой их отряд, более 20 000 пехотинцев и 3000 всадников, бежал. Оба этих движения македонские вожди пока были способны подавить. Афины и их союзники были раздавлены в следующем году (322 до н. э.) Антипатром и Кратеем. Бактрийских греков встретил Пифон, новый сатрап Мидии, и уничтожил их по приказанию регента[17]. Один мятеж македонцам подавить не удалось – на Родосе, который, узнав о смерти Александра, изгнал македонский гарнизон[18] и начал свою жизнь, как независимое греческое государство, которое могло на равных говорить с македонскими правителями мира.
Компромисс, к которому пришли всадники и пехотинцы, начал действовать. В должное время Роксана родила сына – Александра, царя с материнской утробы. Однако вскоре начались проблемы. Быстро стало ясно, что господство Пердикки было чем-то большим, чем согласны были терпеть другие македонские вожди. Не прошло и полутора лет со дня смерти Александра, как в его царстве образовались две враждующие партии. С одной стороны, Пердикка, представлявший центральную власть; простачок и младенец, которых именовали царями, были под его охраной. Олимпиада, мать Александра, поддерживала его всеми силами своего влияния. Дело царского дома фактически было связано с делом Пердикки. Против него объединилась большая часть других македонских вождей. Душою оппозиции был Антигон, сатрап Фригии, однако партия включала в себя и Антипатра, старого полководца Филиппа, который командовал в Македонии с тех пор, как оттуда отбыл Александр, и только что подавил восстание греческих государств; она также включала Кратея, одного из наиболее популярных у македонских воинов вождей, а также Птолемея, сатрапа Египта. Вожди открыто не противостояли власти царей – одному лишь Пердикке; их действия тем не менее фактически были направлены против любой центральной власти. Даже среди тех, кто оставался на стороне регента, было много таких, чьи сердца, как показали дальнейшие события, принадлежали оппозиции. Из великих людей царства только один, помимо Пердикки, был серьезен в защите царского дела – Эвмен из Кардии, главный секретарь Александра, который получил сатрапию Каппадокия. Его вызывающее неприязнь положение как грека среди македонских аристократов делало весьма маловероятными его шансы в схватке полководцев; для него все зависело от поддержания власти царей.
В 321 г. до н. э. противостояние вылилось в открытую войну. Поводом для нее, по крайней мере со стороны Антигона, был его отказ повиноваться призыву регента, за которым последовало бегство в Македонию, где Антипатр и Кратей открыто поддержали его ссору с ним. Что касается Птолемея, casus belli стал захват им тела Александра – фетиша, который давал огромный престиж тому, кто обладал им. Антигон, Антипатр и Кратей перешли в наступление, перебравшись из Македонии в Малую Азию; Птолемей остался защищать свои позиции в Египте. Чтобы подавить этот двойной мятеж, регент разделил свои войска. Эвмена оставили в Малой Азии, чтобы он выгнал захватчиков. Сам Пердикка с царями отправился на Египет. Тех македонских вождей, что все еще повиновались ему, но были слишком могущественны, чтобы считаться безобидными, он оставил рядом с собой под наблюдением. Ведь политику отсылания возможных конкурентов на безопасное расстояние он уже испытал!
И Селевк, которого мы в последний раз видели как юношу с блестящим будущим в Вавилоне, – на чьей стороне он был во время этих первых лет анархии, последовавших за кончиной Александра? В договоре, который предоставил столь многим его собратьям-вождям часть завоеванных земель, он провинции не получил. Вместо этого ему дали высокую командную должность в имперской армии под командованием регента[19]. Едва ли, если бы он сам этого желал, он не смог бы заполучить себе провинцию, как и все остальные. Лисимах, который получил Фракию, возможно, был и младше его. Многие действующие сатрапы не были достаточно значимыми персонами, чтобы не уступить, если бы такой юноша, как Селевк, стал настаивать на своих требованиях. Должно быть, тот командный пост, который он получил, казался ему более выгодным, чем управление провинцией. Безусловно, это была бы более блестящая должность, если бы власть царей и регента могла удержаться. Да, теперь все ясно: его планы подразумевали продолжение империи, он связал свою дальнейшую судьбу с судьбой регента, и он упустил свой шанс в договоре 323 г. до н. э.
Но это было уже два года назад, и, если он тогда не показал того же умного предвосхищения событий, как Птолемей, с тех пор он многому научился. Селевк сопровождал регента в экспедиции против Египта. Возможно, он был среди тех, кого Пердикка считал опасными. Пифон, сатрап Мидии, тоже туда отправился, и Антиген, командир «серебряных щитов», македонской пешей гвардии. Кампания эта оказалась наглядным уроком, причем совсем не таким, как хотелось бы регенту. Для Селевка ясно выявился контраст между его собственным положением – ведь он был связан своей должностью и обречен на постоянное подчинение центральной власти – и положением Птолемея, который продемонстрировал свои способности на умно выбранном и умно подготовленном участке и смог удержать свою независимость против всех атак. Три раза Пердикка пытался пересечь рукав Нила, который отделял Египет от пустыни, каждый раз с огромными потерями. Вскоре его армия была полностью деморализована; множество воинов переходили к Птолемею; те, кто так не поступал, косо смотрели на своего вождя. В таком затруднительном положении Пердикка потерял контроль над собой. Его отношения с македонскими вождями, которых он собрал вокруг себя, обострились. Это была последняя соломинка. Македонские вожди, которых оттолкнуло поведение регента, видя, что его дело проиграно, быстро согласились положить конец этой невозможной ситуации. Пифон, сатрап Мидии, и примерно еще сотня офицеров подняли открытый бунт. Селевк принял сторону победителей. И свой выбор он сопроводил безжалостно энергичными действиями. Он сам повел отряд офицеров кавалерии, которые вломились в палатку регента. К ним присоединились телохранители[20], и их командир Антиген сам нанес Пердикке первый удар[21]. Затем масса нападающих кинулись на него и завершили дело[22]. Армия немедленно примирилась с Птолемеем и вернулась с царями, дабы соединиться с Антипатром и Антигоном, которые шли с севера. Пифон и другой вождь по имени Арридей приняли командование армией и опеку над царями.
Популярный полководец Кратей, который оставил Македонию вместе с Антипатром, ушел из жизни. Его отряд потерпел удивительное поражение от рук Эвмена, и сам он погиб (май 321 до н. э.). Однако эта победа Эвмена не сделала его достаточно сильным, чтобы задержать Антипатра, который пересек Малую Азию посуху, или Антигона, который двигался вдоль берегов морем. Антипатр обнаружил армию (это была армия Пердикки), расквартированную у Трипарадиса в Северной Сирии[23].
Македонская пехота все еще была в раздраженном и подозрительном настроении. Роль ее в убийстве Пердикки, как кажется, в основном была пассивной; аристократы и всадники действовали через голову пехотинцев. И хотя они примирились с изменением командования, они не могли не чувствовать, что в чем-то предводители их обманули. Они охотно ответили на призыв Эвридики, амбициозной супруги Филиппа Арридея, когда она начала жаловаться, что Пифон покушается на права их кумира – бедного недоумка-царя. Пифону и Арридею удалось до некоторой степени усмирить их, отказавшись от регентства; они продолжали осуществлять свои права лишь до появления Антипатра, которого вслед за тем армия выбрала регентом вместо них. Антипатр, великий представитель старых дней Филиппа, должен был все наладить.
Но теперь, когда появился Антипатр, результат был тот, что он также поссорился с македонскими воинами. Дело было в деньгах, которые обещал Александр и которые Антипатр то ли не хотел, то ли не мог выплатить немедленно. Эвридика и сторонники Пердикки довели воинов до бешенства. Армия стояла лагерем на берегах реки. С другой стороны были войска, которые Антипатр привел с собой из Македонии. На верность этих новых рекрутов можно было полагаться вполне, однако большая армия, включавшая в себя ветеранов, завоевавших мир, которая выбрала царей и считала себя суверенной властительницей империи, подняла открытый бунт. Когда Антипатр перебрался через реку, чтобы побеседовать с воинами, его встретили камнями. Двое мужчин противостояли взбешенной толпе и спасли Антипатра. Один из них, как и сам Антипатр, был полководцем времен Филиппа – Антигон, сатрап Фригии, другой принадлежал уже новому поколению и предстал во всем блеске юности и военного престижа – Селевк, командир конницы. У них обоих было достаточно влияния, чтобы отвлечь внимание озлобленной толпы, пока Антипатр бежал по мосту к своему собственному лагерю. Здесь к нему присоединились офицеры конницы, и перед лицом объединенной воли своих наследственных вождей пехоте с неохотой пришлось утихомириться и подчиниться[24]. Приход Антипатра к регентству принес с собой (как и вступление в эту должность Пердикки) перетасовку должностей в империи. Функции, которые были объединены в лице Пердикки, разделили между Антипатром, ставшим опекуном царей, и Антигоном, принявшим должность главнокомандующего всеми македонскими войсками в Азии с задачей подавить Эвмена и остаток старой роялистской партии. Антигон, конечно, продолжал владеть своей старой сатрапией во Фригии, к которой теперь добавилось его новое военное командование. Различные изменения в то же самое время были сделаны и в отношении других сатрапий. Ценность территориальной базы стала еще более очевидна теперь, чем была три года назад. Пифон отправился обратно в Мидию; Арридей получил Геллеспонтскую Фригию. Для Селевка договор в Трипарадисе вернул шанс, который он упустил при договоре в Вавилоне. Роль, которую он сыграл в спасении жизни Антипатра, поставила его в сильную позицию. Возможно, теперь было уже немного сатрапий, в которых ему могло бы быть отказано, если бы он попросил. Его выбор теперь показывает, как он изучил пример Птолемея. Отдав свое командование гетайрами Кассандру, сыну Антипатра, он стал править провинцией, которая из всех частей империи имела больше всего общего с Египтом, – провинцией Вавилония.
Ввиду огромной важности Вавилонии среди других провинций сначала кажется удивительным, что после кончины Александра она досталась не кому-то из великих вождей. Она была отдана некоему Архонту из Пеллы[25]. Объясняется это, безусловно, тем, что Вавилон должен был быть штаб-квартирой правительства регента, и Пердикка не хотел иметь непосредственно рядом с собой слишком могущественного правителя. Сатрап Вавилонии должен был быть всего лишь подчиненным даже в своей собственной столице. Архонт не радовался этим обстоятельствам, как мы можем судить из того факта, что через два года он оказался в оппозиции Пердикке (или же Пердикка, во всяком случае, считал его оппозиционером). Регент – находившийся тогда в Киликии по дороге из Малой Азии в Египет – послал одного из своих офицеров, которым он доверял, Докима, чтобы тот заменил Архонта; бывший сатрап должен был стать просто собирателем дани с провинции. Архонт попытался удержать свою сатрапию военной силой. Однако к эмиссару регента присоединилась часть населения провинции, и в последовавшей стычке Архонт пал, смертельно раненный. После этого Вавилон принял Докима с распростертыми объятиями; тот удерживал его для Пердикки, покуда несколько месяцев спустя ситуация внезапно не изменилась. Регент лежал, истекая кровью из множества ран, на берегу Нила, и оппозиция восторжествовала. Нельзя было ожидать, что Доким останется на своей должности. Вавилонию вожди в Трипарадисе передали Селевку[26].
Что после этого произошло между Докимом и Селевком, мы не знаем[27]. В следующем году Селевк владел Вавилоном, а Доким с другими сторонниками покойного регента скрылся в холмах Писидии[28]. Положение сатрапа Вавилонии приобрело дополнительную важность после новых назначений. Теперь его уже не затмевал имперский двор. Два вождя, унаследовавшие власть Пердикки, располагались один в Македонии, а другой – в Келенах (Фригия). Селевк теперь стал хозяином наследства Навуходоносора. На тех же террасах, где тремя столетиями раньше бродил Навуходоносор и говорил: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!» (Дан., 4: 27), теперь ходил, как господин, юный македонец и смотрел на тот же самый Вавилон, простиравшийся перед ним на юг, как на свои владения.