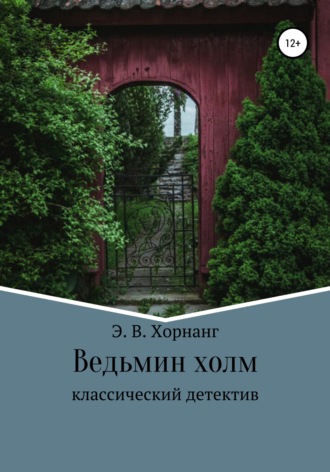
Э. В. Хорнанг
Ведьмин холм
В первый же вечер он сказал:
– Тебе нужно выпить виски, Гиллон.
А когда я сказал, что редко прикасаюсь к нему, – я знаю, что в этом доме вы не делаете этого, – возразил он, на мгновение, положив руку мне на плечо. – Но все в порядке, Гиллон! Вы много знаете о докторе Джонсоне?
– Почти ничего. Вы должны спросить Уво.
– Ну, я сам мало что знаю, но помню, что, когда бедный старик умирал, он отказался от лекарств, которые давали ему покой, потому что сказал, что решил "отдать свою душу Богу незамутненной". Я думаю об этом и считаю, что нет в этом смысла. Я лучше бы сделал то, чего не сделал доктор Джонсон, чем покинул бы моего мальчика….если бы Он призвал меня!
И он налил совсем чуть-чуть из ложного чувства гостеприимства, но больше не повторял, хотя ночь продолжалась. На следующий вечер я смог отказаться, не обидев его; после этого к графину так и не притрагивались. И все же раз или два я видел, как пробку вынимали в полнейшем отсутствии разума, а потом без колебаний и суеты ставили на место.
Самоконтроль? Я никогда не знал человека, у которого было бы его больше; это происходило каждый час, который мы проводили вместе, и вскоре это было необходимо почти каждую минуту. Однажды Делавойе ворвался в контору в городском костюме и с трагическим лицом.
– Им нужна вторая медсестра! Дело уже дошло до этого, – сказал он, – и я собираюсь заняться этим сейчас.
– Но разве это не работа врача? – спросил я, любя его внешность так же мало, как и его новости.
– Я ничего не могу поделать, Гилли! Я должен как-то протянуть руку помощи, иначе я сломаюсь. Мало что можно сделать, кроме того, что быть дневной сиделкой у бедного старого Коплстоуна, а сегодня днем он в кои-то веки заснул. Какой он замечательный парень, Гилли, и будет им всегда, если только мы сумеем вытащить парня и вытащить их обоих из этой передряги! Но ведь две жизни висят на одной ниточке, а мой проклятый старик изо всех сил старается ее перерезать! Вот увидишь, я его убью. Всеми правдами и неправдами я буду сопротивляться ему…
Но белые облака неслись за красными домами напротив, и Делавойе снова бросился к своему поезду, как отчаявшийся предводитель безнадежной надежды, оставив свои темные глаза гореть перед моими и его дикие слова звенеть в моих ушах.
Не говоря уже о том, что он никогда не был в здравом уме, он, казалось, потерял ту уравновешенную голову, на которую я научился полагаться в любой критической ситуации, но Коплстоун все еще сохранял свою, и я восхищался им все больше и больше. Он по-прежнему упражнялся, как мужчина, воздерживался от назойливой няньки или доктора, показывал невозмутимое лицо у постели больного, но все больше и больше избегал комнаты и вообще не заходил во время ужасных стадий бреда.
– Если бы я остался там надолго, – сказал он мне однажды, – я бы устроил сцену. Я ничего не могу с собой поделать. Есть много вещей, которые затуманивают твой разум, и я должен все время держать свой незамутненным.
Он держался почти безмятежно, и его безмятежность не была тем оцепенением отчаяния, которое иногда принимает тот же вид, ибо я не думаю, что был момент, когда Коплстоун впадал в отчаяние. У него было слишком крепкое сердце. В его поведении не было ничего принужденного или неестественного; чувства его не притуплялись ни на мгновение, но он ни на мгновение не давал им воли. Только наши трезвые бдения прорезали более глубокие линии, чем его излишества перед Рождеством, и с каждой ночью он становился на год старше.
Мы проводили их внизу, в его кабинете. Ни один из нас не был шахматистом, и я не разбирался в картах, но иногда мы играли в шашки или домино часами, как будто один из нас был самим Ронни. Мы часто говорили о нем, но никогда так, будто речь шла о его выздоровлении. Коплстоун заходил так далеко, что оплакивал вероятность полностью проигранного хоккейного семестра, и его взгляд крался к фотографии прошлогодней хоккейной команды в маленькой школе Ронни, на почетном месте на каминной полке, где действительно скрывался один из его самых героических трофеев.
Приспособленный и пропорциональный, как и полсотни других в Поместье, этот кабинет Коплстоуна – один из тех колдовских интерьеров Холма, которые время не может разобрать в моем сознании. Он был полон воспоминаний о блестящем детстве. Там были фотографии в рамках четырех кембриджских экипажей, двух Итонских восьмерок, Итонского общества с Коплстоуном впереди в белых брюках, "длинной низкой стены с деревьями за ней" и "старой серой часовни за деревьями". Кроме того, под веслами висело несколько разноцветных наград и было больше серебра в форме чашек, спасателей и гравированных сигаретных коробок, чем мог содержать в чистоте его скромный штат слуг. Над каминной полкой висели правила Итонского общества, под стеклом с трофеем из тросточек, украшенных светло-голубыми лентами.
– Боюсь, все это выглядит довольно откровенно, – извиняющимся тоном произнес Коплстоун. – Но я подумал, что это заинтересует Ронни и, возможно, заставит его отказаться от крикета. А теперь…
Он замолчал, и я надеялся, что он не будет продолжать, потому что именно в этот момент Ронни было хуже всего, и пришла вторая медсестра.
– А теперь, – сказал Коплстоун, – маленький грешник хочет засохнуть!
Я от природы не склонен к унынию, но в тот вечер я, со своей стороны, задавался вопросом, поедет ли Ронни вообще в Итон. Бредовая стадия всегда страшна для измученного невежды, наблюдающего за ней у кровати; еще хуже, если человек находится внизу, стараясь не слушать, но ничего не делая, и без спокойного голоса сиделки и опытных глаз, которые могли бы его успокоить. Так я провел ту ночь. Бред начался прошлой ночью и с тех пор не прекращался. Но Коплстоун не был напуган; он держался мужественно, как герой. Его мысли обо мне вызвали комок в горле. Так как я отказался оставить его, то должен был занять диван, а он прекрасно устроился бы в кресле. Он сделал это лучше, чем я мог себе представить. Он мирно уснул, а я сидел, наблюдая за его огромными длинными конечностями в приглушенном газовом свете, но всегда прислушиваясь.
У Ронни не было задатков прекрасного телосложения отца. Это была одна из тревожных особенностей дела. Он был хрупким, возбудимым, очень нервным, каким, как мне казалось, была до него его бедная мать. И он был трагически похож на ее скрытый портрет. Я видел его так часто, как только мне разрешалось взглянуть на Ронни. Что она сделала не так перед смертью? Это было, пожалуй, самое главное, что я хотел узнать о ней, но после моего обещания Ронни я чувствовал, что не в состоянии даже обсуждать бедняжку с Делавойе. Но она была в моих мыслях не так постоянно, как сам Ронни, и сегодня вечером, казалось, она была и в его мыслях.
– О мамочка! Мамочка, дорогая! Моя очень, очень маленькая мамочка!
Бог знает, что привело меня наверх, кроме ужасного очарования этих странствий, умственной необходимости либо слышать их, либо знать, что они прекратились. На лестнице я был так рад, что они прекратились. Это было в темной игровой комнате, теперь заполненной больничными приборами, чайниками, бутылочками и кислородными аппаратами; именно здесь я слышал радостный бред его любящего маленького сердца, здесь, на пороге между двумя его собственными комнатами, я даже видел его, обхватившего тонкими руками шею молодой медсестры, которая взяла на себя ночное дежурство.

Она услышала меня. Она подошла к двери и застыла на фоне веселого света камина во внутренней комнате. Его сияние только согрело одну сторону ее белой шапочки и простого одеяния, затем скользнуло по высокому белому лбу и заставило слезу блеснуть под ним.
– Он думает, что я его мать, – прошептала она, – и я позволяю ему!
Я вышел на лестничную площадку, взял себя в руки и, не разбудив Коплстоуна, прокрался в кабинет.
Утром я без всяких угрызений совести дремал за прилавком, потому что бдение было для меня совершенно бессонным, когда стеклянная дверь открылась, как удар грома, и вошел Делавойе, потирая руки.
– Сегодня утром доктор ухмыляется во все лицо! – воскликнул он. – Поверь мне, в нашей молодой собаке еще много жизни.
– Какая у него температура?"
– До сорока с небольшим. Во всяком случае, они покончили с этим адским бредом.
– Когда бред прекратился?
– Где-то ночью. Сегодня утром он не несет никакой чепухи.
– Но после полуночи он просто бредил. Я сам подошел и услышал его.
Уво расплылся в ликующей улыбке.
– Ах! – Гилли, – сказал он, – но теперь у нас в доме появился ангел. Ты почти слышишь, как бьются ее крылья!
– Это твой собственный бред, Уво?
– Нет, но первоначально это было сказано об ангеле смерти, Гилли, и я имею в виду совершенно противоположный тип ангела.
– Молодая медсестра?
– Вот именно. Она просто бесценна. Но я знал, что так и будет.
– Значит, ты что-то о ней знал?
– Достаточно, чтобы привести ее вчера вечером и прогнать доктора! Но теперь он весь для нее.
Я тоже это знал, ибо, хотя слеза нигде не бывает более неуместной, чем на щеке опытной кормилицы, ни в одной из них нет такого желанного свидетельства человеческого интереса и привязанности. И еще был нежный такт притворства, которому она поддалась перед моими глазами, даже как воспоминание, оно почти наполнило их заново. И все же я не мог говорить об этом Коплстоуну, а Делавойе не хотел, чтобы меня заставили выдать то, что я обещал Ронни держать при себе.
Мы все звали ее сестрой Агнес, но я, например, почти не видел ее больше, если не считать ежедневного дежурства в серой униформе и развевающейся вуали. Дело в том, что улучшение состояния Ронни было столь заметным и столь продолжительным, что и его отец, и я смогли снова лечь в постель. У самого мальчика были прекрасные ночи, и он сказал, что с нетерпением ждет их; с другой стороны, для последнего признака приближающегося выздоровления он стал немного трудным днем. В общем, я не удивился, узнав, что две медсестры не понадобятся после второй недели, но мне было грустно слышать, что уезжает сестра Агнес, и я подумал, что Уво Делавойе будет еще печальнее.
Между ними что-то было. Я был в этом уверен. То, что он поспешил за ней в город, абсурдные основания, на которых он якобы оправдывал эту официозную процедуру, а затем его искренний энтузиазм на следующий день, когда его протеже продемонстрировал ее достоинства, – все это само по себе было подозрительным обстоятельством. Но сами по себе, в такое время, они легко могли бы ускользнуть от внимания. Это было более чем подозрительное обстоятельство, которое привело весь поезд домой ко мне.
Однажды в полдень, когда мне было нечего делать, я прогуливался и вдруг увидел, что сестра Агнес идет передо мной. Ее тонкая вуаль развевалась вокруг нее, когда она быстро шла, но я шел еще быстрее; в любом случае я должен был догнать ее, и это был шанс услышать больше хороших новостей о Ронни, потому что мы никогда не видели ее ночью, кроме как в отблесках огня через дверь комнаты больного. Уво, очевидно, и этого было мало; вскоре я заметил, что он идет впереди, и когда сестра Агнес догнала его, вместо того чтобы я догнал ее, он едва потрудился приподнять шляпу. Но они шли вместе, а я ждал в воротах, прежде чем повернуть назад.
Так вот оно что! Я радовался за Уво, старался радоваться вообще. Во всяком случае, он выбрал замечательную сиделку, но, право же, я так мало видел девочку … если это было подходящее для нее слово. При явном отсутствии других возражений я был готов к явному недовольству по поводу возраста.
Однако она собиралась. Это было что-то, и Уво, похоже, не особенно переживал по этому поводу. Но когда пришло время, он сам вызвал для нее кэб; он не вошел, но я видел его в окно, когда снова сидел с Коплстоуном за шашками, потому что был субботний день, и Ронни чувствовал себя не совсем хорошо.
– Это, должно быть, для сестры Агнес, – невинно сказал я. – Жаль, что она так скоро уедет.
– Но она еще не уезжает! – Воскликнул Коплстоун, опрокидывая доску. – Она уезжает сегодня вечером, мне сказала другая медсестра. Конечно, я должен увидеть ее до того, как она уедет!
– Мне кажется, это ее кэб, – сказал я, не желая выдавать Делавойе, но гораздо сильнее чувствуя, что сестра Агнес спасла Ронни жизнь.
– Я не слышал звонка, – сказал Коплстоун.
– И все же я думаю, что это сестра Агнес на лестнице.
Я слышал только один скрип, но только один, и медсестра стояла на цыпочках за дверью, когда Коплстоун открыл ее. Она выглядела такой испуганной, словно была воровкой.
– Что вы имеете в виду, сестра, пытаясь ускользнуть от меня? – Сказал он своим сердечным голосом. – Знаете, мне все говорят, что вы спасли жизнь моему малышу, а я вас почти не видел. Вы всегда укладывали его спать к тому времени, как я заканчивал ужинать, а утром я так задерживался, что мы не виделись. Вы должны уделить мне минутку, знаете ли!
Но сестра Агнес только стояла, что-то бормоча и улыбаясь, в полутемном холле.
– Я … я не должна опоздать на поезд, – только и услышал я.
И тут я понял, что даже я слышал ее голос всего один раз, и теперь он звучал совсем не так, как раньше. Он не должен был так звучать, вот почему я понял это в мгновение ока. И в этой вспышке я увидел, что сестра Агнес все эти дни и ночи держалась от нас подальше, не подпуская нас к себе с помощью дюжины негласных правил, которые в то время казались единственно правильными и профессиональными.
Но более яростный свет ударил Коплстоуна, словно плеть по глазам. И он отшатнулся, как ужаленный и ослепленный, пока сестра Агнес не попыталась проскочить мимо двери. Затем его длинная рука метнулась вперед, и я вздрогнул, когда он втащил ее за собой.
– Ты! – Выдохнул он, и его челюсть дернулась, как будто он был нокаутирован на ринге.
– Да, – холодно сказала она, глядя на него сквозь вуаль, – и они совершенно правы – я спасла для вас вашего мальчика. Вы не возражаете, если я уйду?
Я протиснулся мимо них и бросился к Делавойе, ожидавшему меня с кэбом.
– Кто она? Кто, черт возьми, эта твоя медсестра? – Воскликнул я, не сдерживаясь.
Он отвел меня подальше от извозчика.
– Коплстоун заметил ее?
– Сразу … Но кто она?
– Его жена.
– Я думал, она умерла?
– Нет, он развелся с ней три года назад.
– Кто тебе сказал?
– Ронни.
– И ты никогда не говорил мне!
– Я обещал ему, что никому не скажу.
Маленький негодяй! Он связал нас обоих, но между мной и Делавойе была характерная разница, как и между теми чувствами, которые мы вызывали в этом доблестном маленьком сердце. В то время как я удивлялся его тайне, Ронни доверился Уво по собственной воле и согласию.
– И это он умолял меня привести ее, Гилли, когда ему было совсем плохо! Он сказал, что это его единственная надежда, что она сможет вытащить его, что он знает, что она сможет! Так что я нашел ее, и она смогла. На самом деле она не была медсестрой, но она была его матерью, она была его Ангелом Жизни.
– Будет ли она прощена? – Спросил я, когда мы косо посмотрели на окна кабинета, которые давали нам только колеблющееся отражение кустов и труб напротив.
– Простит ли она? – Сардонически отозвался Уво. – Тому, кто не прав, всегда труднее, и всегда есть, что сказать в свою защиту!
– А она знает, что ее мужа тоже нужно спасать?
–Тише! – сказал Делавойе. Дверь открылась. Коплстоун вышел на крыльцо и стал шарить по карманам.
Я затаил дыхание, и единственным существом, которое сейчас имело значение на всей этой дороге с унылыми красными домами и во всем зимнем мире за ее пределами, был огромный потрясенный парень, спускавшийся по тропинке.
– Можешь отдать это извозчику, – сказал он, наполняя мою ладонь рассыпчатым серебром. – Просто скажи ему, что теперь он нам не нужен!
Глава VI
Под рукой
Должно быть, на втором году моей скромной службы страх перед кражей со взломом овладел Ведьминым холмом. Это был, несомненно, ноябрь, месяц грабителей, и туманы подтвердили его худшие традиции. В ту ночь, когда уличные фонари вспыхивали в последний момент, как пушечная вспышка сквозь собственный дым, в дом на Уитчинг-Хилл-роуд вошли с научной точки зрения, и серебро абстрагировалось в стиле, достойном драгоценных камней. В этом случае воры скрылись со своей скромной добычей. Это выглядело так, словно они специально выбрали самого уродливого клиента в Поместье. Их выбор пал на полковника Артура Чеффинса, который не только держал огнестрельное оружие, но и умел им пользоваться, и рассказывал о себе так, что было просто чудом, как негодяи спаслись.
Первое, что я услышал об этом деле, был град гравия в мое окно глубокой ночью. Затем сквозь туман донесся голос Уво Делавойе, прежде чем я успел сообразить, что делаю у открытого окна. Полковник Чеффинс жил в доме напротив дома Делавойе, где он недавно основал небольшое заведение для стрельбы, и, когда Уво мчался по дороге на выручку, при первых же звуках выстрелов он, бедняга, сам попал под огонь в тумане. Как я понял, добрый полковник был в восторге от этого, хотя никакого вреда не было причинено, и это был всего лишь один из учеников, который дал волю своему волнению. Но не соблаговолю ли я пойти и осмотреть повреждения прямо там? Если так, то они будут рады меня видеть, а пока что виски есть для всех желающих.
Я тотчас же выскочил в халате и тапочках, увидел, что Уво дрожит в своем халате, и поспешил к месту происшествия. Пришлось долго искать в тумане, пока освещенный зал не вспыхнул перед нами, как темный фонарь на расстоянии вытянутой руки. В классной комнате в задней части дома, вокруг газового камина, который горел во всех наших домах, учитель и ученики все еще рассказывали свою историю по очереди и беспорядочным хором. Их аудитория оказалась меньше, чем я ожидал. Небольшая кучка неспортивных жильцов, казалось, была более склонна жаловаться на беспорядки, чем пускаться в погоню, но в тумане и темноте это было безнадежно, и вскоре мы с Уво остались единственными незваными гостями. Мы остались по особому приглашению, потому что я подружился с полковником за оклейку и покраску его дома, а Уво только что показал себя настоящим другом.
– Эту битву очень легко восстановить, – сказал стрелок у подножия лестницы. – Я был там, на лестничной площадке, когда впервые выстрелил в негодяев. Вы найдете пулю в нижней части входной двери. Один из них выстрелил в ответ, и вот дыра в окне. Я искал его в воротах, но начинаю надеяться, что завтра утром мы найдем вместо него каплю-другую их крови.
Полковник Чеффинс был маленьким лысым человечком с усами, как у зубной щетки, и блестящими глазами, в которых плясало искреннее восхищение всем этим приключением. Он во всем походил на старого солдата, даже в егерском комбинезоне, и я отдавал ему огромное предпочтение перед двумя его молодыми компаньонами, но схоластические связи формируются не путем подбора и выбора исходного материала. Однако мы с Делавойе так же свободно, как и они, пользовались бутылкой виски вместо приличной одежды, и тот, кто чуть не совершил непредумышленное убийство, имел некоторое оправдание в своей депрессии и угрызениях совести.
– Если бы я застрелил вас, – сказал он Уво, – то вышиб бы себе мозги. Я не шучу. Я не стал бы стрелять в человека даже за двадцать тысяч фунтов!
И он с содроганием опустился в кресло, ближайшее к пылающим кускам белого асбеста, облизываемым тонким синим пламенем.
– Господи, благослови мою душу, я больше не хочу! – Воскликнул стрелок от всего сердца. – Я нарочно целился низко, чтобы не ранить их выше плеча; моя пуля в двери, в то время как их пуля просвистела мимо моей головы, пролетая через окно наверху. Это самая отчаянная банда головорезов, уверяю вас.
– Конечно, есть что сказать в пользу револьвера, – заметил Уво, разглядывая оружие, лежавшее теперь на чугунном камине.
– Вы хотите сказать, что у вас его нет? – воскликнул полковник Чеффинс.
– Да. Я бы не стал держать его даже в Египте. Я ненавижу этих тварей, – сказал Уво Делавойе.
– Но почему?
– О, я не знаю. В них есть что-то сверхъестественное. Они так уютно лежат у тебя в кармане, и тебе даже не нужно их вынимать, чтобы отправить себя в Царствие Небесное!
– Ну что вы, мистер Делавойе?
– Никогда не знаешь наверняка. Ты можешь сойти с ума от этой мерзости.
– Да благословит Господь мою душу! – Вскричал полковник, вскинув брови. – Ты можешь сойти с ума во время бритья и порезаться слишком глубоко, если уж на то пошло!
– Или когда ждешь поезда, или когда смотришь в окно! – Вставил я, чтобы рассмешить Уво из той болезненной жилки, которую я понимал в нем, но другие могли легко неправильно меня истолковать. Я видел, как два юных ученика обменялись взглядами, пока я говорил.
– Нет, – ответил он, смеясь в свою очередь, к моему облегчению, – ни один из этих способов не дался бы так легко, и все они причиняли бы еще большую боль. Однако, чтобы быть вполне серьезным, я должен признать, что сейчас не время и не место для этих маленьких предубеждений против единственного лекарства от нынешней эпидемии. И все же я бы предпочел довериться одному из моих суданских орудий, с которым, если бы вы попытались, не случилось бы несчастного случая.
Его собственные комнаты были свободно увешаны смертоносными трофеями, добытыми в глухих кварталах Нила, но я все больше и больше чувствовал, что Уво Делавойе намеренно искажает себя перед этими тремя незнакомцами, и лучшее, на что я мог надеяться – это на то, что некоторая доля сардонической веселости заставит их предположить, что это все его фантазии.
– Ну что ж, – сказал полковник, – если таковы ваши взгляды, я только надеюсь, что у вас в доме не так уж много "ценных вещей".
– Напротив, полковник, все, что у нас там есть, на несколько размеров великовато для своего места, и наш сундук просто не поместился бы в хранилище местного банка. Как вы думаете, где мы его держим?
– Понятия не имею.
– В ванной! – Воскликнул Уво Делавойе со взрывом смеха, который был освежающим завершением некоторых из его самых капризных припадков. Но нужно было знать его, чтобы оценить его тонкие оттенки, особенно чтобы отделить запутанные нити мрачного веселья и веселой серьезности, и я боялся, что галантный маленький ветеран начинает считать его безобидным сумасшедшим. Покачав лысой головой, он прокомментировал это заявление так, что сам Делавойе неожиданно развеселился. И в целом я был благодарен, когда возвращение слуги с нервным констеблем, выхваченным из тумана удачным падением, дало нам повод на ощупь перебраться через дорогу.
– Что заставило тебя говорить всю эту чушь о револьверах? – Проворчал я, когда мы вошли в его ворота.
– Это была не чушь. Я взвешивал каждое слово.
– Тем более тебе должно быть стыдно, если ты это сделал, но ты прекрасно знаешь, что это не так.
– Мой дорогой Гилли, я ни за что на свете не стал бы жить с этим мерзким маленьким оружием. Я … я не мог, Гилли … недолго!
Он крепко держал меня за руку.
– Я пойду с тобой, – сказал я. – Ты не годишься для одиночества.
– О да, это так! – Рассмеялся он. – У меня еще нет ни одной такой штуки и никогда не будет. Я бы предпочел, чтобы воры вломились и украли каждую унцию серебра в этом месте.
Итак, мы расстались на то, что осталось от ночи, вместо того чтобы превратить ее в день, как мы часто делали с меньшим оправданием; и на этот раз мои силы сна покинули меня. Но не попытка ограбления или какая-нибудь из ее сенсационных особенностей не давали мне уснуть, а прискорбный разговор Уво Делавойе об огнестрельном оружии, который уже не действовал на другие умы, а открывал его собственный. Я часто слышал, как он потакал своим болезненным фантазиям, но никогда так беспричинно и при посторонних. Мне он мог и хотел сказать все, что угодно, но в последнее время он был менее свободен со мной, и я больше беспокоился о нем. Он уже больше полутора лет пролежал на полке. В этом была вся его беда. Дело было не в том, что он когда-либо серьезно болел, а в том, что он всегда был достаточно здоров, чтобы беспокоиться, потому что он не становился лучше для работы. Его мозг работал как двигатель, и бесполезный износ начал сказываться на всей машине. Конечно, он писал немного бессистемно, но я никогда не думал, что его сердце было в его пере, и его привередливый вкус был скорее сдерживающим фактором, чем подстегивающим. И все же он сетовал на хлеб безделья, говорил, что человек должен быть здоров или мертв, и что его матери и сестре будет лучше без него. Эти дамы опять были не дома, и от этого не легче было отделить подобные высказывания от нездорового ужаса перед заряженными револьверами.
Так что вы можете представить себе, что я почувствовал на следующий же вечер, который я настоял провести в доме № 7, когда неприятный разговор возобновился и разгорелся до негодования. Дневной свет и меньше количество тумана не смогли обнаружить никаких следов воров, и стало очевидно, что моральная победа полковника (он потерял несколько ложек) также была, к сожалению, бескровной. Я больше не видел его в течение дня напрасного волнения, но ночью его карточку принесли в комнату Уво, и старик последовал за ней, как новая булавка.
В те дни я не слишком хорошо одевался, и оба мы, молодые люди, были более или менее такими же, как и весь день, но вид щеголеватого полковника в хорошо сшитом смокинге, с блестящей, как его почтенная седина, рубашкой на которой красовались пара крупных жемчужин, вполне мог заставить нас покраснеть. Под мышкой у него была большая коробка из-под сигар, которую он с придворным блеском подарил Делавойе.
– Вы бросились к нам на помощь прошлой ночью, мистер Делавойе, и мы чуть не застрелили вас за ваши старания! – Сказал полковник. – Прошу вас, примите сувенир, который, надеюсь, в ваших руках и при подобных обстоятельствах вряд ли кончится таким дымом.
Уво поднял крышку, и газовый фонарь вспыхнул на покрытых металлом частях шестизарядного револьвера с шестидюймовым стволом. Это было одно из тех смертоносных орудий, которые мы видели на каминной полке полковника ночью.
– Я не могу принять его от вас, – сказал Делавойе, отпрянув от пистолета. – Я действительно очень благодарен вам, полковник Чеффинс, но я ничем не заслужил такого прекрасного подарка.
– Позволю себе не согласиться, – сказал полковник, – и мне будет очень больно, если вы откажетесь. Никогда не знаешь, когда настанет твой черед; после вашего рассказа об этом сундуке я не буду спокойно лежать в постели, пока не почувствую, что вы должным образом подготовлены к худшему.
– Но моя бедная матушка скорее лишится всех солонок, полковник Чеффинс, чем позволит застрелить человека у себя на лестнице.
– Мне и в голову не придет застрелить его, – ответил полковник. – Я бы даже не зашел так далеко, как зашел вчера вечером, если бы мог. Но с этим сверкающим бочонком в руке, мистер Делавойе, я думаю, вам будет легче поддерживать беседу с каким-нибудь назойливым посетителем.
– Он заряжен? – Спросил я, когда Уво осторожно вынул оружие из коробки.
– В данный момент нет, и боюсь, что эти несколько патронов – все, что у меня есть. У меня самого их хватает только на крайний случай. Между прочим, мне нет нужды предупреждать вас, чтобы вы не упражнялись в стрельбе из пистолета в этих маленьких садиках. С револьвером такого калибра это было бы крайне небезопасно. Господи помилуй, ведь вы можете свалить какого-нибудь несчастного в соседнем приходе!
Я был полностью согласен, но Делавойе не участвовал в разговоре. Он играл с подношением полковника, как ребенок играет с огнем, с тем же напряженным лицом и назойливой неприспособленностью. К счастью, он не был заряжен. Я видел, как он поморщился, когда молоток неожиданно щелкнул; затем он продолжал щелкать им, как будто это ощущение завораживало ухо или палец; и как раз в тот момент, когда я обнаружил, что нахожусь в нетерпеливом ожидании, Уво закончил игру с безрассудным блеском в запавших глазах.
– Я пропащий человек, Гилли! – Сказал он, мрачно подмигнув мне. – Я боялся, что так и будет, если однажды почувствую его в своей лапе. Это чрезвычайно любезно с вашей стороны, полковник Чеффинс, и вы должны простить меня, если я, кажется, заигрался с вашим подарком. Но дело в том, что я всегда был довольно осторожен с этими красивыми вещами, и я должен поблагодарить вас за возможность преодолеть эту слабость.
Его тон был достаточно искренним. Как и серьезное лицо, обращенное к полковнику Чеффинсу. Но сама его серьезность разозлила и встревожила меня, и я был полон решимости изложить свое решение более определенно.
– Значит, пистолет твой, Уво? – Спросил я с самой неискренней ухмылкой, на какую только был способен.
– Пока смерть не разлучит нас! – Ответил он. И его смех потряс каждую клеточку моего тела.
Я никогда не знал, насколько серьезно к нему относиться; это было худшее из его неуловимого юмора, или, может быть, это было из-за моего собственного недостатка в любом таком качестве. Признаюсь, мне нравится, когда человек смеется над своими шутками и делает вид, что он говорит то, что думает. Уво Делавойе делал то или другое, или ни то, ни другое по своему капризу, и я иногда думал, что он специально для моего замешательства культивирует в себе хитрость. Таким образом, в данном случае он был вполне способен принять тревожную позу, чтобы заплатить мне за любое чрезмерное беспокойство, которое я мог бы выдать от его имени; поэтому я, в свою очередь, должен был восхищаться револьвером и даже приветствовать его как своевременное приобретение. Но либо Уво не обманулся, либо я был прав насчет его болезненного отношения к оружию. Казалось, он не в силах был положить его. Иногда он делал это с видимой решимостью, только чтобы снова поднять его и сидеть, крутя пустые камеры круг за кругом, пока они не начинали тикать, как спидометр на катящемся велосипеде. Один раз он сунул туда один из патронов. Полковник посмотрел на меня, и я уселся на стол рядом с Уво. Но хуже всего было то, как дрожала его рука, когда он быстро вытащил патрон.
Мы не произнесли ни слова, но Уво продолжал болтать с бойкой живостью и смехом, который действовал мне на нервы. Его новая собственность была единственной темой. Он не мог оставить эту тему, как и саму вещь. Это был револьвер, весь револьвер, и только револьвер для Уво Делавойе в ту ночь. Он был по-детски одержим его неприятными возможностями, но относился к ним с мрачным легкомыслием, не лишенным остроумия. Его кровожадная болтовня переросла в причудливую и ужасную речь с цитатами, которые прилипли, как бурсы. Не раз я поглядывал на полковника Чеффинса, ожидая от него неодобрения, которое было бы весомее, чем от меня; но вскоре после его приезда принесли графин и сифон, и он только потягивал виски с таким веселым видом, что я подумал, кто из нас сходит с ума.


