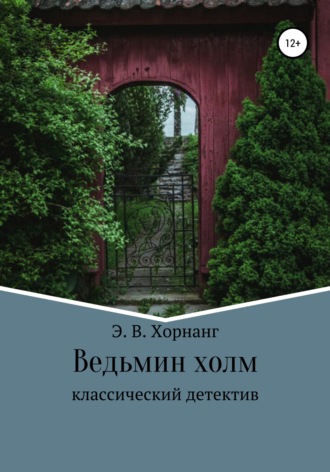
Э. В. Хорнанг
Ведьмин холм
Глава III
Порочный круг
Берриджи из Берилстоу, жившие в доме неподалеку от моей конторы на Витчинг—Хилл-роуд, были, пожалуй, самой достойной семьей во всем Поместье.
Старый мистер Берридж, всю жизнь прослуживший верой и правдой, достиг высокого положения в одном из старейших и наиболее солидных страховых обществ Лондонского сити. Миссис Берридж, сама женщина энергичного характера, посвящала каждую свободную от домашних обязанностей минуту прославлению местного викария и осуждению современных идей. У нее была дочь, чье имя, Берилл, вдохновило ее на создание этого дома; она была миниатюрной и похожей на эхо своей матери и не имела никакого желания ездить на велосипеде или делать что-либо еще, что могла бы сделать миссис Берилл. Единственный сын, Гай, закончил partie carrée и уже стал замечательным бухгалтером под орлиным оком отца. Ему было около тридцати лет, у него было мягкое лицо, но свирепые усы, он был помолвлен и уже собирал книги и картины для нового дома.
Как книголюб Гай Берридж стоял особняком.
– Для меблировки дома нет ничего лучше, – сказал он, – а нынче они такие дешевые. А вот и новая серия викторианской классики – полтора пенса! А эти Шедевры восемнадцатого века. Не знаю, когда у меня будет время их прочесть, но они стоят денег за один только переплет, особенно если убрать все необычное!
В глазах остальных троих было странно, что Гай так спешил покинуть их уютный дом ради одного из своих, который был намного меньше. Мисс Хемминг, будущая миссис Хемминг предпочитала струящиеся ткани необычных оттенков, и у нее были еще более необычные представления о меблировке. По субботам после обеда она таскала беднягу во все магазины подержанной мебели по соседству, даже не для того, чтобы сэкономить деньги, как это делала миссис Берридж. Она жаловалась своим самым близким друзьям, что это просто из любопытства. Это было похоже на приговор, когда Гай так заболел гриппом, очевидно, подхваченным в одном из этих весьма своеобразных магазинов, что ему пришлось отменить свой летний отпуск, уехав на весь срок в начале Нового года.
Он отправился к кузенам Хеммингов в деревню; его собственная мисс Хемминг отправилась с ним, и именно по их возвращении в молодой паре впервые заметили перемену. Они больше не выглядели сияющими вместе, тем более врозь. Добрый молодой бухгалтер проходил мимо моего окна с совершенно трагическим лицом. А однажды утром, когда мы встретились на улице, он сказал мне, что не сомкнул глаз.
В тот же вечер я отправился покурить трубку с Уво Делавойе, который случайно познакомил меня с этими людьми. Мы как раз обсуждали Гая Берриджа и его дела, когда горничная проводила его в комнату Уво.
Я никогда не видел, чтобы человек выглядел таким несчастным. Кроткое лицо, казалось, пряталось за свирепыми усами; глаза, яркие и налитые кровью, морщились, когда с ними встречались. Я встал, чтобы уйти, инстинктивно чувствуя, что он пришел довериться Уво. Но Берридж читал меня так же быстро, как и я его.
– Не уходи из-за меня, – сказал он мрачно. – Мне нечего сказать Делавойе такого, чего я не мог бы сказать тебе, особенно после того, как я уже однажды выдал себя тебе сегодня. Осмелюсь сказать, что три головы лучше, чем две, и я знаю, что могу доверять вам обоим.
– Что-нибудь случилось? – спросил Уво, когда предварительные уговоры напомнили мне, что его посетитель не курит и не пьет.
– Все! – последовал ответ.
– Надеюсь, не с вашей помолвкой?
– С ней, – сказал Берридж, не отрывая глаз от ковра.
– Она не…. отменена?
– Пока нет.
– Я не хочу спрашивать больше, чем должен, – сказал Уво, помолчав, – но я всегда представляю себе, что между людьми, которые помолвлены, малейшая мелочь…
– Это не мелочь.
И бухгалтер покачал опущенной головой.
– Я только имел в виду, мой дорогой друг, если бы у вас были какие-то разногласия…
– У нас никогда не было ни малейших разногласий!
– Она поменяла свое решение? – спросил Уво Делавойе.
– Насколько мне известно, нет, – ответил Берридж, но поднял глаза, как будто это была новая мысль, и в его голосе было больше жизни.
– Она бы тебе сказала, – сказал Уво, – я знаю.
– Разве люди говорят друг другу? – нетерпеливо спросил наш друг.
– Конечно, должны, и я думаю, мисс Хемминг тоже.
– Ах! Для них это достаточно легко! – воскликнул несчастный молодой человек. – Женщины не лгут и не предают, потому что им случается менять свое мнение. Никто не думает о них хуже из-за этого; это их привилегия, не так ли? Они могут разорвать сколько угодно помолвок, но если бы я сделал это, то никогда больше не поднял бы головы!
Он закрыл разгоряченное лицо руками, и Делавойе впервые взглянул на меня. Это был достаточно сочувственный взгляд, и все же в нем было что-то: приподнятая бровь, свет в глазах, – то, что напомнило мне об одном моменте, в котором мы всегда расходились.
– Лучше спрятать голову, чем испортить ей жизнь, – резко сказал он. – Но как давно ты испытываешь желание сделать то или другое? Я всегда считал вас идеальной парой.
– Так и было, – с готовностью согласился бедный Берридж. – Это очень странно!
Я заметил, как дернулись уголки рта Уво, но он был не из тех, кто бросает лукавые взгляды поверх склоненной головы.
– Как давно вы помолвлены? – Спросил он.
– С прошлого сентября.
– Вы тогда были здесь, если я правильно помню?
– Да, это случилось сразу после моего отпуска.
– На самом деле вы были здесь все это время?
– Вплоть до последних нескольких недель.
Делавойе оглядел свою комнату, как адвокат, проводящий перекрестный допрос, оглядывает суд, чтобы отметить свою точку зрения. Я почувствовал, что пора вмешаться с другой стороны.
– Но ты выглядел совершенно счастливым, – сказал я, – всю осень?
– Так оно и было, видит Бог!
– Все было в порядке, пока ты не уехал?
– Все.
–Тогда, – сказал я, – мне кажется, что это просто психическое воздействие гриппа, и ничего больше.
Но не в этом был смысл взгляда, который я невольно бросил на Делавойе. И мое объяснение не утешило Гая Берриджа; он думал об этом и раньше, но никогда еще он не чувствовал себя лучше, чем в последние дни в деревне, и все же никогда еще он не был в таком отчаянии.
– Я не могу пройти через это, – простонал он в жалкой беспомощности. – Это превращает мою жизнь в ад, в живую ложь. Я не знаю, как это переносить, от одной встречи к другой, я так их боюсь! И все же у меня всегда есть какая-то надежда, что в следующий раз все вдруг станет так, как было до Рождества. Разговоры о безнадежных надеждах! Каждый раз хуже предыдущего. Теперь я пришел прямо от нее. Не знаю, что вы обо мне думаете! Не прошло и десяти минут, как мы попрощались. – Большие усы задрожали. – Я чувствовал себя Иудой, – прошептал он, – абсолютным Иудой!
– Я думаю, что это все нервы, – сказал Делавойе, но так мало убедительно, что я громко повторил его слова.
– Но у меня нет проблем с нервами, – возразил Берридж, – ни у кого в нашей семье нет таких проблем. Мы в это не верим. Мы думаем, что они являются современным оправданием для всего, что вам нравится делать или говорить. Это то, что мы думаем о нервах. Я не собираюсь склоняться к этой идее, чтобы показать себя лучше, чем я есть. Гнилое у меня сердце, а не нервы.
– Я восхищен твоим поведением, – сказал Делавойе, – но не согласен с тобой. В конце концов, все вернется к тебе, все, что ты считаешь потерянным, и тогда ты почувствуешь себя так, словно очнулся от дурного сна.
– Но иногда я и так просыпаюсь! – воскликнул Берридж, ухватившись за эту мысль. – Почти каждое утро, когда я одеваюсь, все выглядит по-другому. Я снова чувствую себя прежним, самым счастливым человеком на свете, помолвленным с самой милой девушкой! Она всегда такая, знаете ли, не думайте ни на минуту, что я когда-нибудь буду думать хуже об Эдит; она всегда была и будет в миллион раз лучше меня. Если бы только она сама это увидела и сама меня бросила! Я даже пытался сказать ей, что я чувствую, но она не идет мне навстречу; настоящая правда, кажется, никогда не приходит ей в голову. Как сказать ей прямо, я не знаю. Это было бы достаточно легко сделать в прошлом году, когда ее родственники были против помолвки. Но они сдались на Рождество, когда у меня был взлет в карьере; и теперь она получила свое кольцо и подарила мне это, как же я могу пойти и вернуть его ей?
– Могу я взглянуть? – спросил Делавойе, протягивая руку, и я был благодарен ему за то, что он отвлек меня на несколько секунд, потраченных нами на осмотр старинного эмалированного перстня с белым павлином на малиновом фоне. Берридж спросил нас, не находим ли мы это кольцо очень странным, как и все, что делали в Берилстоу, и он принялся болтать об обстоятельствах его покупки своей дорогой, милой, щедрой Эдит. Разговор пошел ему на пользу. К его мертвенно-бледным щекам вернулся здоровый оттенок, и какое-то время его усы выглядели менее неуместными и пропорциональными.
Но это был всего лишь реакционный всплеск затянувшейся боли, и перед тем, как он ушел, припадок повторился в более уродливой форме.
– Дело не столько в том, что я не хочу жениться на ней, – неожиданно резко заявил бухгалтер, – сколько в ужасных мыслях о том, что может случиться, если я это сделаю. Они слишком ужасны, чтобы описать их даже вам двоим. Конечно, ничто не могло заставить тебя думать обо мне хуже, чем ты уже должен думать, но ты бы сказал, что я сошел с ума, если бы мог заглянуть в мой ужасный разум. Не думаю, что она будет в безопасности, честное слово! У меня такое чувство, что я могу причинить ей какую—нибудь травму … или … или совершить насилие!
Он раскачивался по комнате, дикими глазами переводя взгляд с одного из нас на другого и судорожно ощупывая карманы. Я сам встал рядом с ним, потому что теперь я был уверен, что любовь или болезнь перевернули его мозг. Но это был всего лишь маленький клочок бумаги, который он выудил из жилетного кармана и протянул сначала Делавойе, а потом мне.
– Я вырезал это из рецензии на такое странное стихотворение в моей вечерней газете, – сказал Берридж. – Я никогда не читал ни рецензий, ни стихов, но эти строки меня сильно задели.
И я прочитал:
“И все же каждый человек убивает то, что любит. Каждый пусть это услышит. Кто-то убивает горьким взглядом. Кто-то – лестным словом. Трус убивает поцелуем, храбрец – мечом!”
– Но ты так не думаешь! – Сказал Делавойе, смеясь над ним, и смех этот прозвучал так же фальшиво, как и его прежнее утешение; но на этот раз у меня не хватило присутствия духа дополнить его.
Гай Берридж яростно закивал, протягивая руку за стихом. Я видел, что его глаза наполнились слезами. Но Уво скатал клочок бумаги в шарик, бросил его среди пылающих в камине кусков асбеста и взял протянутую руку. Я никогда не видел, чтобы мужчина был так нежен с другим. Больше не было сказано ни слова. Но бедняга сжал мои пальцы, прежде чем Уво повел его домой. И прошло много минут, прежде чем он вернулся.
– Мне это надоело! – сказал он, ставя ноги к газовому камину. – Не этот бедняга, а его родня, все трое! Я сразу же уложил его в постель, а когда он решил, что я ушел, меня оставили. Конечно, они знают, что что-то не так, и, конечно, они обвиняют девушку. Я знал, что так и будет. Похоже, они никогда по-настоящему не одобряли ее: она – шокирующий пример всесторонней необычности. Они мало знают зеницу ока своих слепых глаз, а, Гилли?
– Я и сам его почти не знал, – сказал я. – Он, должно быть, сумасшедший! Я никогда не думал, что услышу от взрослого человека такое.
– И такой человек! – воскликнул Уво. – Меня удивляет не столько разговор, сколько говорящий, и, между прочим, как хорошо он говорил для него! Он был не таким занудой, каким я его когда-либо знал; в нем была страсть, черт бы его побрал! Красная кровь в этом куске дорожного металла! Он жалеет не только себя. Он просто убит горем из-за девушки. Но этот червь болезненного самоанализа проник в его мозг и … как он туда попал, Гилли? Это не место для маленького зверька. Какой мозг может его прокормить? Что он сделал за все свои скучные дни, чтобы сделать этот безобидный ум питательной средой для всякого рода дегенеративных идей? В моем мозгу они вырастут, как горчица и кресс-салат. Я чувствовал бы себя точно так же, если бы был помолвлен с самой милой девушкой; чем милее она была бы, тем хуже я становился бы; но в любом случае я – дегенеративная собака. О да, Гилли. Где он его взял? Кто отравитель?
– Я рад, что ты спрашиваешь, – сказал я. – Я боялся, что ты скажешь, что знаешь.
– Ты имеешь в виду моего земляного старика?
– Я позаботился, чтобы ты приписал его ему.
Уво от души рассмеялся.
– Ты знаешь о нем не так много, как я, Гилли! Он был последним старым негодяем, который беспокоился из-за того, что не любил женщину так сильно, как она того заслуживала. Все было совсем наоборот, уверяю тебя.
– Да, но как насчет этих почти убийственных наклонностей?
– Я думал о них. Но они появились только после того, как наш добрый друг стряхнул с ног эту деморализующую пыль. Пока он держался Ведьминого холма, он был таким же крепким, как брачный колокол! Это противоречит моей доктрине, Гиллон, но я рад, что ты разделяешь мое разочарование.
– И я слышу, как ты признаешь это, Уво!
– Есть еще кое-что, раз уж мы затронули эту тему, – продолжал он, потому что мы не говорили об этом уже несколько недель и месяцев. – Кажется, в Хэмптон-Корте есть портрет моего неблагородного родственника, написанный неким Неллером. Я только на днях узнал об этом, и мне было интересно, не мог бы ты поехать со мной и поискать его. Поездка не обязательно должна включать спорные темы, и мы могли бы пообедать в "Митре" перед тем окном, которое смотрит вниз по течению. Но это должно быть завтра, если ты сумеешь, потому что галереи не открываются по пятницам, а по субботам они всегда переполнены.
У меня не очень хорошо получалось. Предполагалось, что я проведу весь день в Поместье, и хотя в начале года мне почти нечего было делать, я мог бы погибнуть, если бы мой мистер Мушкетт вернулся раньше обычного и не застал бы меня на посту. Я уже не был равнодушен к продолжительности моих дней в Ведьмином холме. Но я решил рискнуть ими ради человека, который сделал это место тем, чем оно было для меня – садом друзей – как бы он ни старался испортить его для себя.
Мы отправились в мой обеденный перерыв, который ни в коем случае не мог быть засчитан против меня, и довольно рано после полудня рассчитывали вернуться. Это был очень ясный день, более достойный генерала января, чем его начальник штаба. Колеи и лужи намертво замерзли; наши велосипедные колокольчики звенели с приятным блеском. В Буши-парке черные каштаны торчали филигранными верхушками в безветренном сиянии. Под деревьями красновато-коричневый ковер все еще ждал, когда его подхватит мартовский ветер. Пруд Дианы был покрыт льдом; богиня и золотые нимфы ловили каждое мерцание холодного солнечного света, когда мы проезжали мимо. В прекрасном сиянии мы вошли во дворец и поднялись по мрачным старым галереям.
– А вот и дом с привидениями! – сказал Уво Делавойе. – Если наш покровитель грешник проявляет такой отеческий интерес к скромному материалу, имеющемуся в его распоряжении, то как насчет этого веселого пса Генри и добрых дам в этих апартаментах? Мне было бы жаль доверить живую шею тому, что осталось от старушки-убийцы. Ее вывел из себя знаменитый Гольбейн. Но послушай, Гилли, это лицо гораздо хуже, чем у него. Может быть, это мой грубый предок, клянусь Юпитером, так оно и есть!
И он снял шапку оливкового цвета перед красивым, зловещим существом в коричневом развевающемся парике и в таком же прекрасном одеянии, как и все, что висело на стенах. На нем был ошеломляющий павлиньего цвета сюртук, подбитый шелком оранжево-алого цвета, широкие рукава были закатаны тем же самым, а кремовый каскад кружев ниспадал с горла на длинный коричневый жилет, обшитый шелком, можно было поклясться, что материал новый, а цвета могли быть нанесены на той неделе. Они освещали сумрачную комнату. Глаза рядом со мной были не более живыми, чем нарисованные. Не то чтобы глаза Уво были циничны, сладострастны или хитры, но они напоминали мне глубокие воды, скрытые от солнца. Я воздержался от комментариев по поводу сходства, которое не шло дальше. Я был рад, что только я один видел, как далеко это зашло.

– Слава богу, что эти губы и ноздри не прорастают на нашей ветке! – Уво в шутливой манере поднял брови. – Мы должны внимательно следить за тем злом, которое они сотворили, живя после них на Ведьмином холме! Ты вполне можешь посмотреть на его руки; скорее всего, это были вовсе не его руки, а сделанные по образцу. Надеюсь, у старого турка не было такой женственности…
Он резко остановился, как я и ожидал, увидев, на что я ему указываю, потому что я смотрел не на женственную руку, нарочито положенную на угол стола, а на эмалевое кольцо, нарисованное на мизинце, как миниатюра.
– Боже мой!– воскликнул Делавойе. – Это то самое кольцо, которое мы видели вчера вечером!
По крайней мере, оно было похоже: узкая ножка, высокий выступающий овальный ободок, белый павлин, эмалированный на малиновом фоне, все было на месте, как любили изображать такие вещи художники того времени.
– Должно быть, то же самое, Гилли! Не может быть двух таких крайних странностей!
– Похоже, конечно, но как мисс Хемминг его раздобыла?
– Довольно легко; она осматривает все старые антикварные магазины в округе, и разве Берридж не говорил нам, что она купила его кольцо в одном из них? Очевидно, оно пролежало там последние сто с небольшим лет. Имей в виду, что эта плохая старая партия не стоила ни гроша к концу; тогда ты должен видеть, что все это и так ясно, есть только одна вещь яснее.
– Что это?
– Вся причина и происхождение мук и страхов Гая Берриджа по поводу его помолвки. У него никогда не было ни того, ни другого до Рождества, когда он получил свое кольцо. С тех пор оно превратило его жизнь в Ад, каждый день и каждый час каждого дня, за исключением иногда утра, когда он вставал. А почему бы и нет? Потому что он снимал кольцо, когда шел в ванну! Я зайду так далеко, чтобы напомнить тебе, что его единственные спокойные и рациональные моменты прошлой ночью были, когда ты и я смотрели на это кольцо, и оно было снято с его пальца!
Сильное волнение Делавойе привлекло внимание старого служителя, стоявшего у окна, и каким-то смутным образом этот ветеран привлек мое. Я посмотрел мимо него, на официальную территорию. Тис и кедр казались мне нереальными в зимнем солнечном свете; я почти задавался вопросом, не сплю ли я в свою очередь и где я нахожусь. Как будто прикосновение фантастического на мгновение коснулось даже моей ясной головы. Но я очень скоро стряхнул его и со смехом высмеял побежденную слабость.
– Да, мой дорогой друг, все это очень хорошо. Но…
– Никаких твоих цветущих "но"! – Воскликнул Уво с почти безумным легкомыслием. – Мне казалось, что этот случай достаточно конкретен даже для тебя. Но мы поговорим об этом в "Митре" и подумаем, что делать.
К этому разговору я присоединился, в эти рассуждения я вступил, не споря вовсе. Это не обязывало меня ни к одному пункту отвратительного вероучения, но, с другой стороны, не умаляло превосходства компании Делавойе на торопливом пиру, который до сих пор остается в моей памяти. Я помню длинную красную стену Хэмптон-Корта, как единственную теплую черту сурового пейзажа. Я помню красное вино в наших бокалах, легкий румянец на смуглом лице, склонившемся ко мне, и чудесный поток оживленных разговоров, восхитительных, если не принимать их слишком всерьез. Мое собственное отношение я лучше всего улавливаю в обвинении Уво, что я улыбался, улыбался и был скептиком. Это была одна из тех характерных реплик, которые прилипают только по одной причине. Уво Делавойе в те дни вообще не был широко начитан, но у него был большой круг цитат, которые были мне не совсем незнакомы, и, в конце концов, я понял, что он знает своего Гамлета почти наизусть.
Но до сих пор "муки и страхи" бедняги Берриджа были оригинальными для моей более грубой культуры; и когда я увидел его в следующий раз, в пятницу вечером, муки показались мне еще острее, а страхи еще более изнуряющими, чем прежде. Он снова сидел с нами в комнате Уво, но чаще расхаживал взад и вперед, бормоча и жестикулируя. В конце концов, Уво занял с ним твердую позицию. Я ждал этого. Он задумал этот план в Хэмптон-Корте, и мне было любопытно посмотреть, как его примут.
– Так больше не может продолжаться, Берридж! Я провожу тебя до конца – до самого горького конца!
Уво не был актером, но все же это было великолепное актерское произведение, потому что оно было более чем наполовину искренним.
– Неужели ты это сделаешь, Делавойе? – воскликнул бухгалтер, слегка поеживаясь от своей удачи.
– Скорее! Я не позволю тебе сходить с ума прямо у меня под носом. Дай мне это кольцо.
– Мое—ее—кольцо?
– Конечно, это ведь твое обручальное кольцо, не так ли? И твой долг перед собой, перед ней и перед всеми остальными – разорвать эту помолвку как можно скорее.
– Но ты уверен, Делавойе?
– Конечно. Отдай его мне.
– Это кажется таким ужасным поступком!
– Это мы еще посмотрим. Спасибо, теперь ты сам себе хозяин.
И теперь я действительно начал открывать глаза, потому что не успел несчастный бухгалтер расстаться со своим кольцом, как его угасающая любовь хлынула обратно чудесным потоком, и через пять минут он снова умолял об этом, клянясь, что был безумен, но теперь в здравом уме, и вдобавок больше осознавал себя. Но Делавойе был непреклонен перед этими истерическими мольбами. Он снабдил Берриджа своими прежними доводами против брака и, по крайней мере, один раз задел отзывчивую струну в этих истрепанных нервах.
– Никто, кроме тебя, – заметил он, – никогда не говорил, что ты ее не любишь, но посмотри, что из тебя делает любовь! Можно ли мечтать о браке в таком состоянии? Разве это справедливо по отношению к девушке, пока ты не переосмыслишь все по-настоящему и не поймешь раз и навсегда, что у тебя на уме? Может ли она быть счастлива? Будет ли она, это было твое собственное предположение, в безопасности?
Берридж заломил руки в новом отчаянии; да, он забыл об этом! Эти ужасные инстинкты были единственной неизменной ужасной чертой. Не то чтобы он все еще ощущал их, но вспоминать о них как о подлинных импульсах или, в лучшем случае, как о непреодолимых мыслях – значило заморозить свое недоверие к себе, превратив его в неизлечимый рак.
– Я совсем забыл об этом, – простонал он. – И все же у меня в кармане лежит та самая книга, из которой написаны эти безнадежные строки. Я купил ее сегодня утром у Стоунхэма. Это самое странное стихотворение, которое я когда-либо читал. Я не совсем понимаю. Но этот кусочек был достаточно ясен. Только послушайте, как звучит!
И нараспев, как школьник, без всякого выражения, кроме того, которое невольно придавал ему его дрожащий голос, он прочел вслух двенадцать строк: "Некоторые убивают свою любовь, когда они молоды, а некоторые, когда они стары; Некоторые душат руками Похоти, Некоторые руками Золота; Самые добрые используют нож, потому что… – Он ужасно вздрогнул, – Мертвые так быстро остывают. Одни любят слишком мало, другие слишком долго. Одни продают, а другие покупают; Одни делают это со многими слезами, а другие без вздоха, ибо каждый человек убивает то, что любит, но не умирает".
– Это все, на что я способен, смерть! – простонал Гай Берридж, пытаясь убрать свирепые усы со своего кроткого лица. – Чем скорее, тем лучше для меня! И все же я любил ее, видит Бог, любил! – Внезапно он повернулся к Уво Делавойе. – И я до сих пор … Слышишь? Тогда верни мне мое кольцо, говорю я, и не поощряй меня в этом безумии … ты … ты дьявол!

– Отдай ему, – сказал я. Но Уво стиснул зубы против нас обоих, выглядя почти так, как его только что называли, отвратительно похоже на того славного злого джентльмена из Хэмптон—Корта, – и я больше не мог выносить всего этого. Я сунул руку в карман Делавойе. И вниз, и прочь, в ночь, словно демон, выпущенный на волю, полетел Гай Берридж и кольцо с павлином, покрытое белой эмалью на кроваво-красной земле.
Я снова повернулся к Делавойе. Его плечи были подняты к ушам в кривом добродушии.
– Может быть, ты и прав, Гилли, но теперь мне действительно придется просидеть с ним всю ночь. Во всяком случае, утром я получу его обратно, и тогда ни ты, ни он никогда больше не увидим эту нечистую птицу!
Но он зашел так далеко, что показал мне его через мой прилавок, через несколько минут после того, как молодой Берридж с опущенной головой и небритыми щеками прошел мимо, чтобы успеть на свой обычный утренний поезд.
– Я сидел с ним, – сказал Уво. – Мы сидели, пока он не свалился в кресло, и, в конце концов, я уложил его в постель скорее спящим, чем бодрствующим. Но сегодня утром ему опять плохо, как никогда, и на этот раз он сдал адское кольцо по собственной воле. Я должен разорвать отношения с девочкой, отдав его обратно.
– Ты идеальный герой, чтобы взять это на себя!
– Я чувствую себя еще большим обманщиком, Гилли.
– Когда ты с ней разберешься?
– Никогда, мой дорогой друг! Разве ты не видишь, в чем дело? Этот белый павлин лежит в основе всего. Ни один из них никогда больше не увидит его, и тогда ты увидишь, что они поженятся, и будут жить счастливо до конца своих дней!
– Но ты собираешься выбросить эту штуку?
– Нет, если я могу помочь, Гилли. Я скажу тебе, что я задумал сделать. В Ричмонде есть маленький ювелир, который сделал мне хорошую булавку из тяжелых старых гвоздиков, принадлежавших моему отцу. Я собираюсь сегодня же отнести ему это кольцо и посмотреть, сможет ли он сделать дубликат за любовь или деньги.
– Я пойду с тобой, – сказал я, – если ты подождешь до полудня.
– Мы должны уехать прежде, чем Берридж успеет вернуться, – с сомнением ответил Уво, – иначе мне придется начинать все сначала, потому что он, конечно, вернется выздоровевшим и с ревом потребует свое кольцо. Я еще не решил, что ему сказать, но думаю, что мое воображение выдержит такое напряжение.
Такое отношение казалось мне довольно циничным, даже при самых лучших обстоятельствах, и уж точно не в духе Уво Делавойе. Слишком уж способный, по моему мнению, обманывать самого себя, он не был обманщиком, насколько я его знал, и было обидно видеть, что он так любезно принял эту роль. Я предпочитал не говорить об этом по дороге в Ричмонд, по которой мы шли пешком в предрассветные часы. Плачущая оттепель превратила замерзшие колеи в простые грязевые трубы той консистенции, которая сжимает покрышку, как зубы. Но нельзя было не сравнить этот тяжелый топот с нашим искрящимся кружением по Буши-парку. А припадки жара и холода у бедняги Берриджа представляли собой неизбежную аналогию.
– Я не могу его понять, – говорил я. – Я могу понять человека, который влюбляется и даже снова влюбляется. Но Берридж летает из одной крайности в другую, как мячик в тяжелом ралли.
– И он не так устроен, Гилли! Вот что меня не отпускает. Ты можешь быть совершенно уверен, что он не первый заводчик грешников, который начал с того, что дрожал на грани брака. Это отчаянный шаг. Я бы и сам испугался, но ведь я не один из верных псов природы. Если бы не собачья верность этого доброго Берриджа, я бы не возражал, чтобы он думал и съеживался, как многие лучшие люди.
Мы срезали последний поворот перед Ричмондом, следуя по асфальтовой тропинке за церковью Святого Стефана. Здесь мы, наконец, выбрались из грязи; влажный асфальт сиял чистым блеском, и наши шаги отдавались эхом впереди, между двумя длинными стенами, пока не смешались с топотом приближающихся ног, и в поле зрения не появилась еще одна пара. Это были мужчина и девушка, но я не сразу узнал в сияющем горожанине в блестящей шляпе, просунувшем руку под руку дамы, Гая Берриджа, возвращавшегося домой со своей некогда возлюбленной. Это был стон Уво, который заставил меня снова посмотреть, и в следующий момент мы вчетвером перекрыли узкий проход.
– Тот самый человек, о котором мы говорили! – воскликнул Берридж, не глядя на меня. Шляпа его была выглажена, слабый подбородок отполирован парикмахером, крепкие усы подстрижены и завиты. Но спорадическое свечение отмечало обе скулы, и он забыл ответить на наше приветствие.
– Да, мистер Делавойе! – сказала мисс Хемминг с лукавой строгостью. – Что вы делали с моим белым павлином?
У нее была каштановая челка, как правило, очень сильно завитая, но влажный воздух смягчил и улучшил ее; и, возможно, выздоровление ее молодого джентльмена углубило доброе дело, потому что она была девушкой, которая иногда напускала на себя вид, но на ее счастливом лице, казалось, не было места ни для чего.
– По правде говоря, – ответил Уво, не краснея, – я как раз собирался показать его одному знатоку в Ричмонде. – Он повернулся к Берриджу, который с нетерпением встретил его взгляд. – Именно поэтому я и одолжил его. Я считаю, что оно более ценно, чем вы оба понимаете.
– Только не для меня! – с готовностью воскликнул бухгалтер. – Я не знаю, что я думал, когда снимал его. Я слышал, что это крайне неудачный поступок.
Нетрудно было догадаться, от кого он это услышал. Мисс Хемминг ничего не сказала, но выглядела еще более решительной с закрытым ртом. И Делавойе обратился с извинениями к нужному лицу.
– Мне ужасно жаль, мисс Хемминг! Конечно, вы совершенно правы, но я надеюсь, что вы сами покажете его моему человеку.
– Если вы не возражаете, – сказал Берридж, с улыбкой протягивая руку.
– Я думаю, вы будете рады, – он ощупал все свои карманы, – очень рады, если вы это сделаете, – и его голос замер, когда он снова проверил карманы…
– Хорошо, что я телеграфировал тебе, чтобы ты встретила меня в Ричмонде, не так ли, Эди? Иначе мы бы опоздали, – сказал бухгалтер.
– Может быть, и так! – бедный Уво не мог не закричать. – Я … дело в том, что я … нигде не могу его найти.
– Может быть, ты его оставил, – предположил Берридж.
– Мы можем забрать его, если это так, – сказала девушка.
В его внезапном беспокойстве было что-то такое, что взывало к их общему фонду щедрости.
– Нет, нет! Я уже говорил вам, зачем еду в Ричмонд. Я думал, что оно у меня в кармане. На самом деле, я знаю, что так оно и было, но сегодня утром мы с сестрой ходили за цветами на Кингстонский рынок, и с тех пор я его не выпускал. Его у меня украли, и вот где! Я хочу, чтобы ты порылся в моих карманах. Я перерыл их, перерыл из-за одной вещи, которая не была моей и имела ценность, и теперь вы оба никогда не простите меня, а я не заслуживаю прощения!


