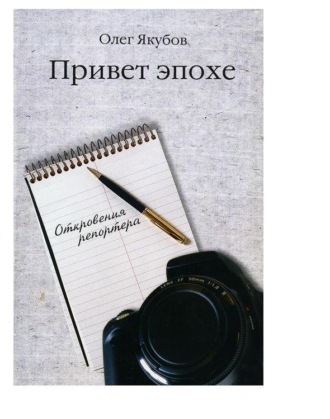
Якубов Олег Александрович
Привет эпохе
По словам Григория Исаевича АЭС была построена с чудовищными технологическими нарушениями, потому что каждый энергоблок нужно было заканчивать к какому-нибудь очередному советскому юбилею, либо партийному съезду. И попробуй не отрапортуй. После окончательного завершения строительства была предпринята еще одна попытка – законсервировать станцию для устранения технических недостатков и дабы предотвратить неизбежную, как понимали специалисты, трагедию. Но им вновь объяснили, насколько стране необходим мирный атом, обвинили в попытке саботажа и Чернобыльская АЭС встала в строй прочих атомных уродцев.
– В прошлом году, – продолжал свой рассказ Малоокий, – мы проверили уровень радиации в сельхозпродукции. Он оказался повышенным. Снова стали бомбить документами центр, но на нас уже просто не обращали внимания. Мы понимали, что произойдет трагедия, не знали только, когда гром грянет. Вот вчера и грянул. Загорелась крыша энергоблока, уровень радиации зашкалил. Ребята-пожарные все отправлены в госпиталь. Несколько часов назад созванивался с Москвой, врачи ничего толком не говорят, но по их тону понял, что шансов выжить у пожарных не много. Сообщать о трагедии нам категорически запретили. На носу Первомай, потом День победы, да к тому же через Киев должна проходить международная велогонка. Короче, делаем вид, что был обычный пожар на обычной электростанции. А тут от радиации скоро люди умирать начнут. Так что, может, все-таки уедешь? – неожиданно повернул разговор секретарь обкома.
– Нет, теперь уж точно не уеду, – твердил я свое.
– Ну, гляди, – согласился Григорий Исаевич и одобрительно добавил. – Я и не знал, что ваш брат-журналист таким настырным может быть.
Утром возле подъезда гостиницы «Центральная», куда меня определили на жительство, стояла машина. Капитан Николай Коваленко из политотдела областного управления пожарной охраны сообщил унылым тоном, что ему приказано доставить меня на КПП Иванково и там ждать дальнейших распоряжений.
– А в Чернобыль мы сегодня попадем? – спросил я его нетерпеливо.
– Если не повезет, то попадем, – уныло ответил Коваленко. Пока что в тюрьму поедем, киевскую «крытку», как ее зэки называют.
– В тюрьму-то зачем?!
– Не боись, -успокоил капитан. – Ночью штаб заседал, принято решение, что в зону пожара в своей одежде никого не пускали. А спецкостюмы обещали только через неделю подвезти. Ну, вот и решили всех командировочных в киевской «крытке» переодевать в зэковские робы, чтобы, значит, выбрасывать не жалко было. Так что поехали, переодеваться будем.
Но с переодеванием поначалу произошла заминка. Начальник склада, ветеран войны, уехал на похороны своего однополчанина, ключ впопыхах захватил с собой, так что попасть в хранилище одежды не удалось. На вопрос, долго ли ждать кладовщика, сотрудник тюремной администрации оптимистически ответил, что, возможно, и долго. Мол, похороны, потом наверняка поминки, глядишь, к вечеру и вернется. Впрочем, тут же выход был и найден. Из какой-то камеры извлекли подследственного вора-форточника, он через окошко под потолком проник на склад, открыл изнутри английский замок и нам был выдан полный набор – брюки с курткой и кепкой, белье, носки и ботинки. Свою одежду мы упаковали в специально выданные толстенные целлофановые пакеты, которые на специальной машинке заклеили.
Эта процедура повторялась в последствии ежедневно и неукоснительно. Выезжая из так называемой «черной зоне» мы на КПП «Иванково», что в десяти километров от АЭС, переодевались в свое цивильное и возвращались в Киев. Но как-то раз, на выезде из Чернобыля, нас остановил патруль и велел следовать в санитарный пункт. Там у нас с Николаем забрали дозиметры, часа два с половиной что-то там проверяли. Потом сообщили, что был недавно очередной выброс, но нам повезло, дозу мы схватили пустяковую. Сделали соответствующую запись в «Карточке доз радиоактивного облучения», вручили по бутылке красного вина и посоветовали по прибытии в Киев немедленно принять горячий душ, так как на санпункте горячей воды сегодня нет, как, собственно, не было вчера и не предвидется завтра. Мой неизменный сопровождающий Николай пытался по поводу экстремального случая разжиться спиртяшкой пытался, но майор медслужбы хмуро ему заявил, что спирт снимает стресс, а красное вино – радиацию. После этого он порылся в каких-то коробках, выудил оттуда два коричневых пузырька с плотно притертыми резиновыми пробками и без наклеек и еще раз предупредил: Сначала вино, а потом уж, если не свалитесь, можете и этого хлебнуть».
Через КПП мы промчались с ветерком, единодушно решив, что с профилактикой затягивать нельзя, а зэковскую робу можно и дома скинуть. Коля оставил меня возле гостиницы и я направился к освещенному подъезду, где, несмотря на поздний уже час, дежурил неизменный швейцар в расшитой золотыми галунами ливрее. Он преградил мне дорогу и потребовал: «Пропуск». Я показал ему целлофановый пакет с одеждой и стал объяснять, что все мои документы, в том числе и визитная карточка гостиницы «Центральная», находятся внутри, но швейцар был непреклонен и твердил одно-единственное «Пропуск».
– Да я уже двенадцать Дей как здесь живу.
– Знаю, – подтвердил швейцар, – в 312-м номере.
– Ну так?..
– Пропуск.
– Ты же видишь, я из Чернобыля приехал, мне в душ побыстрее надо.
– Вижу, что из Чернобыля, в таких шматах только из Чернобыля приезжают. Пропуск.
– Ну, хорошо, отец, дай мне тогда бритвочку какую-нибудь или нож, там, перочинный, а то как же я пакет открою, – попросил я его.
– Не имею права пост покидать, – оставался неумолимым швейцар.
Поняв всю тщетность своих попыток, я вцепился зубами в целлофановый край пакета и стал терзать его. Кое-как надорвав край, я извлек из кармана куртки гостиничный пропуск и протянул его швейцару. Он изучал его так долго, словно видел впервые. Потом вернул мне и сделал широкий приглашающий жест. И тут я схватил его крепко-накрепко, прижал и зашептал в самое ухо: «А вот теперь за безупречную службу я подарю тебе наш чернобыльский поцелуй, чтобы и тебе, бюрократ проклятый от моей дозы тоже перепало». Он рвался из моих рук птицей, попавшей в силки, но я не ослаблял усилий, стараясь смотреть ему прямо в глаза, и выпустив только тогда, когда насладился всласть его животным страхом.
Моя чернобыльская командировка затянулась до сентября, Я мотался с солдатами на эвакуацию жителей пораженных радиацией сел, довелось мне побывать в опустевшем и омертвевшем городе Припять, на искореженном пожаром и разрушениями Четвертом энергоблоке, да и многое другое пережить во время той командировки. Я не очень-то охотно о ней вспоминаю, но вот иезуита-швейцара почему-то запомнил.
ЗАРАЗНЫЙ КЕФИР
Чернобыльская командировка завершилась для меня больничной палатой. Здесь, в госпитале, познакомился я с легендарным командиром пожарных, тушивших в то страшное утро 26 апреля 1986 года огонь на крыше Четвертого энергоблока, Героем Советского Союза Леонидом Телятниковым. Как Леня выжил при такой невероятной дозе облучения, не понимали даже врачи. Не понимали и оттого, еще больше радовались, что сумели спасти жизнь этого удивительно мужественного человека. Человека немногословного, но очень доброго, Леню все очень любили, навещали его часто и всякий раз друзья извинялись, что пришли в палату с пустыми руками. Врачи строго следили, чтобы никаких продуктов в отделение, где лежали чернобыльцы, не приносили – питание было строго ограничено специально разработанным рационом.
Но как-то раз один из друзей Телятникова все же умудрился пронести с собой бутылку водки. Дождавшись «тихого часа», мы с Леней выскользнули из палаты и направились было в больничный парк. Но по дороге вспомнили, что закуски-то у нас с собой никакой нет, а на ослабевший организм поллитровка может подействовать, ну скажем, неадекватно. Я вызвался «чего-нибудь сообразить». Больница была огромная, отделений множество и я отправился в свой вороватый поиск. Забрел, должно быть, в какое-то желудочное отделение – когда украдкой открыл холодильник, то обнаружил там одни только молочные продукты. Особенно много было кефира. Бутылки просто в штабеля выстроились. Успокоив свою совесть тем, что от нехватки одной бутылки никто тут не пострадает, я быстренько припрятал кефир в карман просторного больничного халата и был таков. В укромном уголке сада мы устроились под ветвями огромного дерева с максимальным комфортом. Насмешив Леню высказыванием, что газета – скатерть журналиста, мы выставили на «Известия» обе бутылки и, не спеша, приступили к «обильной» трапезе. Стояла тихая золотая осень, листья уже были багряными, источая непередаваемый аромат. Мы были живы, беседовали не спеша, хмель приятно будоражил, одним словом, пир удавался на славу. Как вдруг все разом изменилось. В сад, словно буря, ворвался наш палатный врач, за которым, смешно семеня, едва поспевала медсестра. Уж как они прознали о нашей вылазке, и по сей день не ведаю. Да только прознали. Доктор несся на нас стремительно и полы его расстегнутого белого халата развевались на бегу. Как и все мужики, застигнутые за пьянкой врасплох, мы произвели мгновенное и вполне, казалось, правильное действие – одним движением спрятали за толстый ствол дерева бутылку водки, другим движением подвинули ближе к середине газетного листа бутылку кефира и приняли самый безобидный вид. Дескать, что страшного-то случилось? Ну, вышли в сад в неурочное время, эка беда. Врач, подлетев к нам завелся с ходу:
– Как вам не стыдно. Мы вас лечим, стараемся, ночей не спим, государство валюту на иностранные лекарства выделяет, а вы! А вы!..
Он был возмущен до предела, голос его срывался, по лицу шли красные пятна.
– Да что мы-то? Что мы плохого сделали? – попытались мы с Леней перейти в атаку.
– Они еще спрашивают? – окончательно возмутился доктор, взглядом призывая в свидетельницы медсестру. Они не понимают, что он плохого сделали. Вы же кефир пьете! – уже не закричал, а завопил доктор.
Мы поняли всю тяжесть свершенного нами против себя преступления – все, без исключения, молочные продукты, как содержащие белые тельца, в процессе лечения нам были запрещены категорическим.
ВЕРНЫЙ, КАК СОБАКА
Когда мы с Руфатом Рискиевым познакомились, было нам лет по десять и
Бегали мы на занятия боксом в ташкентский Дворец пионеров. Для ташкентских мальчишек это было совершенно особое место. Я, вроде, и пацанов-то таких не знал, кто не побывал бы в этой секции бокса и не прошел уроки у тренера Джаксона.
Вот уж был поистине легендарный человек. Его полное имя Сидней Луи Джаксон, но мы, мальчишки, звали его на русский манер Сиднеем Львовичем, а то и Сергеем Львовичем. Его необычную биографию пересказывали с самыми фантастическим подробностями. А в 1963 году вышел роман писателя Георгия Свиридова «Джексон остается в России» и вот, прочитав эту книгу, мы узнали подробности.
Сидней Джаксон родился в Нью-Йорке, с юных лет занимался боксом и в довольно молодом возрасте стал чемпионом США. В одном из боев получил серьезную травму руки и врачи категорично заявили, что полгода ни о каком боксе и думать нельзя. В этот самый момент к нему обратился некий бизнесмен с предложением поехать в Россию. Он собирался торговать там мясным и консервами в обмен на пушнину пи полагал, что такой секретарь и телохранитель, как чемпион Америки по боксу, ему в далекой и загадочной России не повредит. Сидней согласился и они приехали в Архангельск.
С самого начала торговля у незадачливого бизнесмена не заладилась. Охотники-промысловики на мясные американские консервы смотрели с брезгливостью и покупать их, а тем паче обменивать на пушнину не хотели. А потом началась Первая мировая война, бизнесмен темной ноченькой собрал свои манатки и попросту бежал, бросив своего телохранителя без единого цента в чужой стране. Время было тревожное и смутное, ответ на письмо, отправленное в американское посольство, пришел только через три месяца. Американские власти рекомендовали своему гражданину добираться домой кружным путем, через Китай. Где-то через год Джаксон добрался лишь до Ташкента – без денег, в лохмотьях. Нужно было зарабатывать на дальнейшую дорогу, он утроился в портняжную мастерскую, поселился на квартире у пожилого узбека, который, сочувствуя своему бедолаге-квартиранту, приносил по вечерам лепешку и горстку плова. Сидней прижился в Ташкенте, когда немного поправились его дела, открыл первую в Средней Азии секцию бокса, первым в регионе получил звание заслуженного тренера СССР, воспитав целую плеяду чемпионов. И каждый из нас, отправляясь во Дворец пионеров, мысленно видел себя на спортивном олимпе.
Руфат стал одним из тех, кто на этот олимп действительно поднялся. После смерти Сиднея Львовича он занимался у замечательного тренера Бориса Гранаткина, который по сути заменил мальчишке рано ушедшего из жизни отца. Завоевав золотую медаль чемпиона мира в Гаване и серебро Олимпийских игр в Монреале, Руфат Рискиве стал поистине национальным героем Узбекистана. Было решено снимать о нем художественный фильм, который в итоге вышел на экране под названием «На ринг вызывается…» Руфата пригласили на картину в качестве главного консультанта. Актер, занятый в главной роли, оказался не редкость неспортивным человеком. Даже элементарная боксерская стойка ему не удавалась и Руфат часами пытался обучить его хотя бы зачаточным навыкам. Тщетно. Однажды кто-то на съемочной площадке обратило внимание режиссера на то, как пластичен Рискиев, как хорошо двигается, раскованно говорит. Отчаявшийся режиссер решил рискнуть. Вот так в итоге заслуженный мастер спорта СССР по боксу Руфат Рискиев сыграл в художественном фильме главную роль, создав образ Руфата Рискиева.
В его жизни все с той поры пошло наперекосяк. Руфат «заболел» кино. Он оставил должность заведующего кафедрой физкультуры политехнического университета, забросил кандидатскую диссертацию, которую начинал с таким воодушевлением, перестал тренировать мальчишек, Поначалу ему еще поручали какие-то роли – почему-то в основном он играл басмачей, потом лишь отдельные крошечные эпизоды и, в конце-концов, перестали снимать вовсе. Жестокий мир кино попросту растоптал его.
Все эти годы мы продолжали дружить, я был рядом и тогда, когда, излечившись наконец от кинематографа, Руфат снова вернулся на тренерскую работу, постепенно становился собой прежним, играя на гитаре, декламируя сонеты Шекспира и рубайи Омара Хайяма, сыпал анекдотами, которые знал несчетное количество.
Однажды вечером он заехал за мной в редакцию, ждал пока я освобожусь и от нечего делать написал на ватмане четверостишие Хайяма:
«Всех пьяниц и влюбленных ждет геенна. Не верьте, люди этой лжи презренной.
Коль пьяниц и влюбленных в ад согнать,
Рай опустел бы завтра ж несомненно»,
Заглянувшие в кабинет дамы из отдела литературы и искусства пришли в неописуемый восторг. Их поразило, что боксер написал стихи без единой грамматической ошибки. Руфата же этот восторг покоробил. «Я чуть не не всего Шекспира наизусть знаю, а они балдеют, что я пишу без ошибок», ворчал он весь вечер.
Как-то раз мои друзья уехали в двухгодичную командировку за рубеж. Меня попросили присмотреть за домом. Это был какой-то несуразно огромный дом из восьми, кажется, комнат. В нем было гулко и одиноко. Я предложил Руфату перебраться ко мне. Мы оба были не женаты, он принял предложение с удовольствием, понимая, что в этих хоромах веселым нашим пирушкам никто не помешает. Дом быстро превратился в проходной двор, многочисленные друзья и подружки приезжали в любое, даже самое неурочное время.
Как раз в этот период приехали в Ташкент коллеги-журналисты из Москвы для подготовки по поручению АПН серии репортажей, посвященных какому-то очередному юбилею республики. Утром, уходя из дому, говорю Руфату: «Хочу коллег сегодня домой пригласить. Ты бы съездил на базар, купил все для плова, а я вернусь и приготовлю».
Вот еще, – отмахнулся он. – Гость в дом, счастье в дом, Езжай по своим делам и ни о чем не беспокойся, я и на базар сгоняю и плов приготовлю.
– А ты умеешь?
– Совести у тебя нет, – возмутился Руфат. – Заподозрить узбека в том, что он не умеет плов готовит, значит, узбека оскорбить. А еще друг называешься.
На том и расстались. Весь день мы с коллегами занимались делами, Под вечер заехали в редакцию. Тут я очень кстати припомнил об одной нашей общей с Руфатом шутке, которой мы ловко многих разыгрывали. Говорю коллегам самым невинным тоном. Сейчас ко мне домой поедем, так вы не пугайтесь. Там у меня собака с виду очень грозная, но на самом деле добрая. К тому же говорящая.
– Как понять, говорящая?
– Да так и понять – говорящая. Вы что собак говорящих не видели.
– Фотокор Леша Федоров авторитетно подтверждает, что да, дескать, есть такие бульдоги, они когда зевают, у них зевок такой протяжный, что отдаленно слово «мам» напоминает.
– Да нет, – возражаю Леше, – У меня натурально говорящая собака. Болтает – не остановишь. Ну, а если не верите, вот телефон, позвоните и убедитесь.
Федоров придвигает к себе телефон, набирает продиктованный мной номер и после гудков слышит на другом конце провода: «Собака Якубова слушает». От неожиданности он даже трубку выронил и кричит: «Поехали немедленно, хочу говорящую собаку увидеть»,
Приезжаем, звоним в дверь. Выходит Руфат, останавливается на пороге, поднимает к груди обе руки и отрывистым голосом вопрошает: «Хозяин, рвать, кусать, или в дом пускать?»
Я важно так отвечаю: «Это друзья, в дом пускать и за стол приглашать». Ребята смеются, один говорит: «Видно ты великий человек, если у тебя чемпион мира Рискиев в доме за собаку живет».
Расселись у стола, закусываем, шутим, байки всякие травим. Я выразительно пощелкал по циферблату часов и вопросительно на друга смотрю. Руфат успокаивающий жест сделал – не беспокойся, отвечает, через пятнадцать минут плов подам. За чем-то пошел я на кухню. Смотрю, на столе огромная миска стоит, доверху наполненная морковью. Самые нехорошие появились у меня предчувствия, но пытаюсь себя успокоить: наверное, Руфат слишком много моркови нарезал и эта лишняя. В этот момент и сам незадачливый повар на кухне появился. Киваю на миску: что это? Рискиев бедный, белее стены стал:
– Убей, – кричит, меня, ишака, я морковь в плов положить забыл. Чего делать-то теперь. Может, мы ее отдельно потушим, а потом все смешаем?
Короче, как-то мы из этой ситуации выкрутились, но когда гости ушли, стал я на друга ворчать. Настроение, правда, было хорошее, сориться не хотелось, тем более, что Руфат пошутил блестяще: «Подумаешь, плов запорол. Зато у тебя друг – верный как собака. Это сегодня все признали».
Х Х
Х
ГЛАВА 5
Подул ветер перестроченных перемен. И хотя цензуру никто не отменил, у нас в газете появились по-настоящему острые материалы. На смену Николаю Федоровичу Тимофееву, ушедшему на пенсию, пришел другой редактор, по фамилии Неклесса. Первым делом он собрал весь коллектив и прочитал нам стишок о себе: «Я Неклесса – сторонник прогресса». Сторонник прогресса принимал только коллегиальные решения. Так однажды коллектив решил, что меня нужно выбрать председателем профкома редакции. Я об этом узнал, когда меня хитростью, я в этот момент какую-то важную тему копал, заманили на профсоюзное собрание. После собрания я дома посмотрел на себя придирчиво в зеркало и фальшиво пропел: «Я бы мог быть лихим гайдуком, мог шахтером, танкистом, чекистом, но меня выбирают в местком. Не куда-нибудь, а в местком, потому что характер говнистый». Решив, что характер менять не стану, уснул сном праведника. Председателем профкома я, надо полагать, был никудышним – постоянно торчал в командировках и даже, вернувшись однажды домой, с удивлением обнаружил, что доченька моя уже ходит. А ведь когда уезжал, точно помню, ползала еще. Но хоть одно удовлетворение мне и мои коллегам эта должность принесла.
В творческих кругах Ташкента был печально известен некий Илья Леин. Выпускник журфака, он ни дня в газете не работал. Еще со студенческой поры про Илюшу доподлинно было только одно – стукач. Это свое качество он и сделал основной специальностью. Был он омерзителен до такой степени, что даже жениться не смог.
Как-то повели Илюшу свататься в один дом. Там произрастала дочка, чей отец был по национальности узбеком, а мать еврейкой. Узбеки девочку чурались за еврейскую маму, а евреи не рассматривали ее в качестве невесты из-за отца-узбека. Пришел Илюша. Сели ужинать, пили чай. Потом папа-узбек вывел свата в другую комнату и прошипел:
– Я что, свою дочь на помойке нашел. Забери этава гадина отсюда, пусть дочка всю жизнь со мной живет, чем такому отдам».
Так вот, по окончании университета, стали Илюшу некие невидимые, но весьма влиятельные силы устраивать на работу в различные творческие организации. Но конкретно только в те, где предполагалось снять начальника, а снимать было не за что. Илюша должен был нарыть компромат и в мерзком совеем искусстве весьма преуспел. Начальника снимали, Илюшу отправляли в другую организацию и все повторялось сначала. Так, наконец, он добрался до «творческой вершины» – главной газеты республики. Когда секретарь ЦК все еще существующей компартии привел его к нам за ручку, народ встал на дыбы. Мы открытым текстом заявили партийному боссу, что прекрасно осведомлены об истинном роде занятий товарища Леина. Но секретарь, без тени смущения, заявил, что с прошлым покончено и Илья Леонидович рекомендован нам только работать. И больше ничего. Не придя с нами к демократическому консенсусу, секретарь ЦК повелел главному редактору принять Илюшу в порядке партийной дисциплины.
Тогда из Леина взялись мы сами. Как известно, хуже дурака может быть только дурак с инициативой. Будучи профессионально абсолютно непригодным, но привыкшим свой нос совать повсюду, Леин без труда и затей схлопотал себе три выговора с занесением в трудовую книжку, после чего был уволен по соответствующей статье КЗОТа. Он подал на нас в суд, но суд решение администрации газеты оставил в силе.
На следующий после решения суда день Леин заявился в редакцию и сказал, что всем нам теперь хана. Он-де вчера вечером дозвонился по домашнему телефону до председателя ВЦСПС Геннадия Янаева Зная его способности, мы и не сомневались, что он не врет. И точно, уже на следующий день в редакцию пришла телеграмма на красном правительственном бланке. Будущий гэкачепист и несостоявшийся президент СССР, а пока еще председатель всемогущего ВЦСПС приказывал: «Председателю профкома газеты «Правда Востока» Якубову. Немедленно восстановить в занимаемой должности корреспондента Леина. Янаев». Поскольку телеграмма была адресована мне, то я, никому ее не показывая, отправился на почту и быстренько накатал ответ: «Председателю ВЦСПС Янаеву. Решение администрации и профкома «Правды Востока» об увольнении Леина утверждено народным судом Ленинского района Ташкента. Вопрос о восстановлении Леина в занимаемой должности может быть решен только по решению вышестоящей судебной инстанции. Председатель профкома Якубов». Шеф узнав о моей выходке, побледнел, тихонечко осел в кресло и прошептал еле слышно: «Ну, теперь тебе точно хана». Я с чувством продекламировал ему фразу из известной песни, которую острословы называли гимном алиментщика: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз», про себя добавил для Янаева: «А вы ищите нас, девчата, по разным адресам и укатил в очередную командировку.
Но Янаеву было явно не до нас. Леин судился еще долго, но так ничего и не высудил, а что с ним сталось потом, я и понятия не имею.
Вернувшись после в редакцию после долгих странствий, я с радостью узнал, что у нас новый главный редактор. Им стал Рубен Акопович Сафаров. Он уже лет десять как переехал в Ташкент, работал сначала в ЦК партии, потом замминистра печати и вот теперь был назначен главным редактором «Правды Востока». По утрам у нас проходили планерки. Я уселся на свое законное место. В зал вошел Сафаров. Оглядев собравшихся, он сказал: «Сегодня ровно три месяца, как я здесь работаю. И за три месяца у меня первый радостный день – Олег вышел на работу». Недруги мои заскрежетали зубами.
– Я и вправду рад, старик, – сказал Рубен Акопович. – Ты уж не болей больше, пожалуйста, да и вообще пора тебе остепениться. Ты же все-таки заведующий отделом, лауреат премии Союза журналистов, заслуженный работник культуры, орденами награжден. Ну, сколько тебе еще по свету мотаться? Давай-ка вместе подумаем о твоей новой должности.
– Спасибо, Рубен Акопович, только зря вы так подробно все мои регалии перечисляли. Моя главная должность – репортер, мне другой не надо.
– Ну, это мне решать, чего тебе надо, а чего не надо, – сурово отрезал шеф, и я понял, что характер у него со дней моей андижанской юности не помягчел.
Слова у него с делом и раньше не расходились. Уже на следующий день главный собрал внеочередное заседание редколлегии, куда зачем-то и меня вызвали.
– Сегодня состоялось заседание бюро Центрального комитета,– проинформировал Сафаров. – Рассматривались и кадровые вопросы. В числе других назначений, членом редакционной коллегии нашей газеты утвержден заведующий отделом информации Олег Александрович Якубов. Должностные обязанности нового члена редколлегии будут определены в ближайшие дни, а пока поздравим нашего коллегу. Вас Олег Александрович, – обратился он ко мне, – попрошу банкетом по поводу новой должности не увлекаться. Завтра к десяти утра вы должны быть у заведующего сектором учета ЦК.
Утром с больной головой, банкетом мы все-таки увлеклись, пришел на прием к завучетом ЦК.
– На самомо деле вчера на бюро только утвыерждали твою кандидатуру, а решение было принято еще когда ты в командировке был. Так что заполняй «объективку» и поставь число месяцем назад. Он протянул мне бланк анкеты и я быстренько ее заполнил. Заведующий сначала бегло ее прочитал, потом протянул анкету снова мне: «Номер партбилета не проставил».
– А у меня его нет, – ответил я легкомысленно.
– Ну, братец, когда в Центральный комитет партии идешь, партбилет надо при себе иметь.
– Да нет, вы не поняли, у меня его вообще нет.
Чиновник вышел из-за стола, закрыл кабинет на ключ, из сейфа вынул бутылку «Посольской», разлил в два стакана и молча выпил, призывая меня следовать его примеру. После вчерашнего застолья это было очень кстати, я с удовольствием присоединился. «Ну, а теперь рассказывай, куда партбилет дел. Потерял? Украли? Давай, подробно, без утайки.
– Да нечего мне утаивать. Откуда у меня может быть партбилет, если я беспартийный?
– А как же тебя бюро ЦК утвердило? – не по адресу обратился он.
Когда, вернувшись в редакцию, я подробно изложил разговор в ЦК, Рубен Акопович всплеснул руками: «Вот сколько помню тебя, вечно с тобой все не слава Богу». Но на следующий день вызвал меня и я увидел, что шеф весьма в хорошем расположении духа.
– Сначала я, конечно, получил нахлобучку. Но, поскольку в новой должности, ты еще ничего натворить не успел, то тебя решили в ней и оставить. За основу приняли мое мнение: учитывая процессы перестройки, ввести в редакционную коллегию партийной газеты товарища Якубова, осуществляющего неразрывную связь блока коммунистов и беспартийных. А теперь все же скажи, как ты умудрился за столько лет не вступить в партию, да еще столько наград нахватать? Впрочем, теперь это уже неважно. В партию надо вступить.
Не стану врать, что был я идейным противником компартии. Даже заявление о приеме в КПСС однажды подавал. Мне тогда отказали, сказав, что молод еще. Потом я к этому не возвращался. К тому же явно видел, что в партию вступают по большей части карьеристы. Были, конечно, и честные, идейные коммунисты, но за последние годы что-то они мне все реже встречались. Так что желание идти с ними в одном строю у меня постепенно и вовсе пропало.
…Я сидел за пишущей машинкой в своем новом кабинете, на которой теперь красовалась табличка «член редакционной коллегии», когда ко мне чуть не строем вошло партбюро редакции в полном составе. Секретарь партбюро провозгласил торжественно: «Товарищ Якубов, партийное бюро «Правды Востока» решило оказать вам высокую честь и рекомендовать вас кандидатом в члены КПСС».
– Чаю хотите? – радушно предложил коллегам.
– Какого чаю? – возмутился партийный лидер газеты. – Ты что, не понял, тебя в партию принимают. Или ошалел от счастья?
– Нет не ошалел, потому и не хочу.
– Чего не хочешь?
– В партию не хочу.
Они молча повернулись и строем, как вошли, так и вышли.
Через минуту в динамике селектора раздался голос главного: «Зайди!»
Зашел. Партийцы сидели в полном составе, надутые как мышь на крупу.
– Объясните нам, товарищ Якубов. – в голосе Сафарова звенел метал. – У вас что, существуют какие-то расхождения с курсом КПСС.
– Расхождений с курсом КПСС у меня нет. У меня существуют расхождения с отдельными членами КПСС, – заявил я, признаться, неожиданно даже для самого себя,
– Поясните, что вы имеете ввиду.
– Освободите партию от карьеристов, взяточников и негодяев и я в эту обновленную партию вступлю.
– Ты хоть понимаешь, что ты натворил? – спросил меня шеф, когда я вечером по каким-то делам заглянул к нему в кабинет. – Кто тебя за язык тянул говорить это вслух при них. Там же каждый второй – стучит.
– Значит, я прав. Они плохие коммунисты.
Сафаров глянул на меня сожалеюще, как смотрят на ребенка, не способного понять очевидное: «Тяжело тебе теперь будет».
Вовсе и не собирался я никуда уезжать, хотя в Израль друзья давно звали и даже вызов прислали. А тут, сразу, вдруг, решил: «Уеду»!
На следующий день и уехал, не в Израиль, конечно, а в Фергану, где разыгрались трагические события. Я тогда не знал, что это последняя моя командировка в качестве специального корреспондента центральной партийной газеты «Правда Востока».
ТРИ КОПЕЙКИ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ
В июне 1989 года Ферганской области Узбекистана озверевшие бандиты убивали турок-месхетинцев. Официальная версия хотя и выглядела неприглядно, но была все же приглаженной. Якобы турки обосновались самочинно на местных базаров, выдавив оттуда продавцов из числа местной национальности, подмяли под себя пекарни кондитерские цеха. Местные не выдержали такой наглости, вооружились и пошли по турецким домам жечь, грабить, убивать.
На самом деле, еще за несколько месяцев до трагических событий, в оперативных сводках милиции и КГБ, с тревогой отмечалось, что в Фергану хлынул целый поток рецидивистов со всего необъятного Союза. Председателю ферганского областного Управления КГБ в одном из кабинетов, откуда хорошо видна Красная площадь, да и Магадан не хуже проглядывается, сделали «ну-ну-ну» и настрого велели обстановку не нагнетать. Кончилось это тем, чем кончилось. Местные националисты решили зубы власти показать, понимая, что собственных силенок маловато, под свои зеленые знамена привлекли уголовников. Деньги и наркотики сплотили их ряды, а уж кого убивать, было всем абсолютно безразлично. Выбор пал на турок-месхетинцев (армянские и еврейские погромы случились чуть позже), с них и начали.




