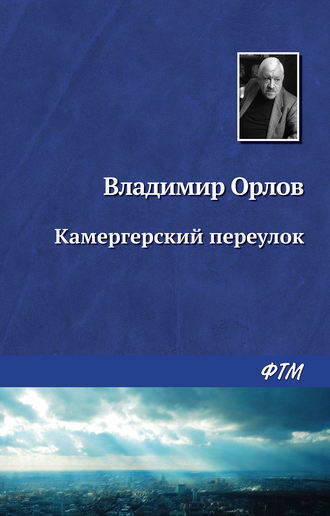
Владимир Орлов
Камергерский переулок
7
Из утреннего выпуска «Дорожного патруля» я узнал, что ночью в Камергерском переулке совершено убийство. Меня отвлек телефонный звонок флейтиста Садовникова, его интересовали новости зимних футбольных переходов. Я что-то отвечал Садовникову, сам же ловил звуки телевизора, понял лишь, что обнаружен труп молодой женщины, лет двадцати пяти отроду. Показали стайку испуганных, но любопытствующих соседок. Мимо них вроде бы прошел Васек Фонарев, водила-бомбила, обещавший и мне привезти из Касимова воды.
В Камергерском я не был дней десять. Событие требовало похода в закусочную. Я ли не из породы московских зевак? По моим понятиям, дом с жильцами в Камергерском остался один. Висели на нем две доски с упоминанием имен Собинова и Кассиля и именно в нем принимала граждан общедоступная закусочная. Выходило, что убиенная должна была квартировать над ней, а потому не исключалось, что я ее видел с тарелкой солянки или хотя бы с яйцом при морской капусте. Хотя, конечно, что мне она? Столько этих убиенных людьми или стихиями приходилось наблюдать каждый день на стекле электронной лампы, что всяческое сострадание к ним будто бы раскрошилось. Но все те убиенные – от тебя далече и «как в кино», то есть в холодной сущности иного измерения. Тут же – в двухстах метрах от тебя, а вдруг еще и знакомая?
Но нет, погибшую я не знал. И жила она не в том здании, какое я ей определил. Приходилось рассчитывать на оперативно-женскую осведомленность персонала закусочной. Хозяйками в ней в тот вечер были буфетчица Даша и кассирша Людмила Васильевна. Убитая, уже не единажды обнародованная на трех каналах в криминальных программах (предвыборный политик позавидовал бы), Павлыш Олёна Николаевна квартировала, вернее снимала комнату не в парадном камергерско-собиновском доме, а в дворовом строении. «Там, за нашей кухней, ну ты знаешь», – указала мне кассирша. Двор был знаком не только мне, но и депутатам Государственной думы. Посетителям, отяжелившим себя прохладительными напитками, рекомендовалось посещать ватерклозеты в «Макдональдсе» за Тверской, у телеграфа. Наиболее же достойным гостям доверительно дозволялось проследовать к облегчениям через кухонную дверь во двор. Во дворе и стояли два корпуса, приписанные к Камергерскому переулку, там же имелись спуски в недра молочного магазина. Несчастную Олёну Павлыш, следовательно, чисто камергерской признать было нельзя. Тем более, что она явилась из какой-то Бутурлиновки завоевывать Москву. «Да видели вы ее, видели! – принялась убеждать меня кассирша Люда. – Бывала тут не раз. То одна, то с компанией». «Точно, видели!» – подтвердила буфетчица Даша, прекратив на секунду любезности с широченным, в скулах и плечах, негром, на мой взгляд, сорока годов. «Не помню, не помню…» – бормотал я. «Ой, ну как же! – воскликнула Даша. – Рослая такая, блондинка, ноги длиннющие, от клюва фламинго, но не костлявые». «Точно! – потвердила Людмила Васильевна. – И пупок голый, зимой шубу скинет, а вы, мужики, на нее рты и раззявите!» «Да таких-то с длинными ногами и голыми пупками, – сказал я, – разве одну от другой отличишь?» «Но эту-то убили!» – удивилась мне кассирша, и удивление ее было убедительным. «Она еще к вам подсаживалась, – снова отвлеклась от собеседования с негром Даша. – Вы были тогда с этим… режиссером… Мельниковым, а она заказала у меня пиво с креветками». Логическая цепочка Даши тоже вышла убедительной: ноги от клюва – розовый фламинго – креветки к пиву. Но все равно от знакомства с Олёной Павлыш я отказался. «Ну не помните, и не помните!» – резко сказала кассирша, посмотрела на меня с неодобрением и прихмурью даже, будто я, не имея алиби, еще и придуривался. То есть вполне возможный быть причастным к убийству, отрекался от подозрительного теперь знакомства.
И все же надо было выговорить хоть кому-то свежайшие, сдавливающие натуру знания, и Людмила Васильевна выговорила их мне. Обнаружила, для кого – тело, для кого – труп, старуха Курехина (Курехину-то я как раз знал и в закусочной видел, ее – клоунессу, заслуженную артистку, снимавшуюся и в кино, к старухам можно было причислить лишь в цирковых измерениях). Курехина и ее муж, клоун и музыкальный эксцентрик, по причине устойчивой нищеты стали угловыми жильцами в семьях родственников, а квартиру («километр от Кремля…») сдавали американцам. Но со временем «километр от Кремля» вышел для колонистов из Нового Света обузой, и они вместе с офисом перебрались в выгодное и фешенебельное Марьино. Курехиным удалось подыскать на две комнаты умеренно озелененных сингапурцев, третью же приходилось теперь сдавать приезжим, рускожующим гражданкам, заимевшим, правда, для валютных уплат добросердечных почитателей. «Да видели вы ее, дядя Володя, – сказала Даша, – она то ли училась у вашего знакомого Мельникова, то ли поступала к нему…»
По поводу способов злодейства мнения разошлись. То есть для публики все способы были хороши, но какой из них был применен вчера, верно сказать не мог никто. Уж на что Людмила Васильевна добродетельно вела себя с милиционерами (а они в закусочную заходили и еще зайдут и, наверное, оставили здесь кого-нибудь в костюме для присмотра за суждениями, «Не негра ли?» – спросил я), а и она от милиционеров ничего путного не вызнала. Темнили в интересах следствия.
– А не в строении ли Васька касимовского это случилось? – предположил я.
– В его, в его, стервеца! Этажом выше.
– Так может, гуманоиды влетели не в ту форточку, а поняв, что нарушили маршрут, озверели?
Неуклюжая моя шутка кассиршей не была поддержана.
– Жалко ее, – вздохнула Людмила Васильевна. – Красивая девка была. Но видать, не из затейливых.
Я пожелал поинтересоваться у Люды: а кто такие – затейливые, но к моему столику победно-громко направился легендарный и только что упомянутый в разговоре Александр Михайлович Мельников, театральное, киношное, мемуарное, телевизионное диво, или, если хотите, блюдо. Обеденное, вечернее и десертно-ночное. А с ним и симпатичный мне актер Николай Симбирцев.
– Здорово, старик! – приветствовал Мельников меня. – Рад, что вы здесь! Вы-то как раз поймете! Не то что эти… Мне, наконец, вырастили дерево!
– Какое дерево?
– Сейчас! Сейчас! – загрохотал Мельников и стал шарить в глубинах кожаного кофра.
– Александр Михайлович, – не смогла удержаться кассирша Люда, – а вы про Олёну-то Павлыш уже знаете?.. То есть уже слышали?
– Конечно! Конечно! Знаю, все знаю… А что с ней?
– Ну как же, ее ведь убили, – тихо, стараясь быть деликатной, произнесла кассирша.
– Ну да… Ну да… Беда-то какая! Мне первому и сообщили. Уговорили произнести сегодня вечером слова по первому каналу… – но тут нечто из системы бдящих правил заставило Мельникова утишить звук, а потом и замолкнуть. Все же он спросил шепотом: – А кто такая Олёна Павлыш?
– Я думала, она ваша знакомая, – сказала кассирша. – Такая красивая блондинка, двадцати пяти лет, рослая, жила в нашем дворе…
– Она еще сидела с вами за столиком… – подтвердила буфетчица Даша.
– Позвольте! – возмутился Мельников. – Да, я, конечно, знал Олёну Павлыш. Это – летчица. Герой Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. Бомбила Берлин. Есть мои воспоминания о ней. Мои и маршала Кожедуба.
– Нет, это не летчица, – растерялась кассирша, – это здешняя Олёна Павлыш…
– Не знаю я никаких здешних Павлышей! – Мельников, видно было, осерчал. – Увольте меня от незаслуженных знакомств! И не мешайте серьезному разговору с коллегой!
А к коллеге, то есть ко мне, было уже обращено с уважением и предощущением удовольствий, возможно, что и моих, коли способен я порадоваться удаче знакомца:
– Достаю, достаю дерево! Свиточек-то какой огромадный!
Но извлек Мельников вовсе не свиточек, а рулон, склеенный из кусков чертежной бумаги, была попытка его развернуть, я увидел лишь важные слова «Родословное древо семьи…», и рулон сам собой свернулся.
– Ну и ладно, – сказал Мельников, – а то бы его пришлось метра на четыре растягивать, вон туда, за прилавок, на кухню, а там бы его залили или лапшой или шпротой недокушанной или еще какими помоями. На пальцах объясню…
Из объяснений на пальцах Мельникова, из его прыгающих слов, выходило, что архивные мальчики и девочки («архидевочки»!) вырастили, наконец-то, родословное древо семьи Мельниковых, предварительный вариант, предварительный! Крюком одного из корней древа был прихвачен новгородский посадник Онуфриевич, чье имя выскребали на первых берестах, а раз новгородский посадник, то в подпочвенных слоях не исключался и Рюрик. В переплетениях же ветвей семейства Мельниковых кто только не обнаруживался! И Шуйские, и воевода Пожарский, и Сумароков (не случайно за Сумароковым – и президент Академии Художеств Оленин), и братья Орловы, и канцлер Бестужев, и Баратынский с Тютчевым, а через Баратынского – и Александр Сергеевич Пушкин, и декабристы Якушкин с Ястржембский, через Рындина – Галина Уланова, и даже эти, со свинцовыми крылами, теперь уже не стыдно говорить, Победоносцев с Леонтьевым…
– Такие удивительные связи, такие люди! – радовался Мельников. – Я в себя не могу придти от открытого! Это я сейчас вскользь и летуче, а будет случай, доложу обо всем основательно…И про герб родовой доложу…
«Завтра, небось, обстоятельно по телевизору и доложит…» – представил я.
– Неужели у тебя на листочках и веточках не отыскались, скажем, кухаркины детки, – поинтересовался Симбирцев, – или незаконный сын Стеньки Разина, отчаянный какой-нибудь головорез? Или укротитель дворовой псины Герасим? Или неразумная барышня Вера Фигнер? Или разбойник из брянских лесов по прозвищу Шандыба? Или и эти у тебя есть, но нынче они – не модные, однако ты их держишь про запас, на всякий случай?
– Опять ты желаешь все опошлить! – вскочил Мельников. Но ожидаемая отповедь его была приостановлена приходом к нашему столику двух внимательных мужчин.
Движение их в теснинах закусочной я наблюдал уже полчаса. В закусочную нередко являлись чужаки, скажем, будто бы миссионеры диковинных сект – то объединения церквей, то безопасной любви, то несокрушимой семьи – с предложением сейчас же снабдить их идеалы деньгами. Бранные слова не гасили их искательные улыбки, каждый столик был ими назойливо-деликатно отработан, всем предъявлялись какие-то карточки. Миссионеров, как правило, выпроваживали, лишь иногда особо нервный бросал им десятку с выкриком: «Только не лезьте мне в душу!». Нынешние внимательные мужчины вряд ли могли вызвать бранные слова (то есть произнесение их). Один из них был знакомый мне участковый капитан Егорычев (в штатском). Сопровождал он, судя по его суете, по крайней мере майора.
– К вам… граждане… товарищи… или господа можно обратиться с вопросами? – произнес предполагаемый майор, статный, вполне киногеничный, из сериала, лет сорока пяти.
– Конечно, – сказал я. – Присаживайтесь.
– Спасибо. Подполковник Игнатьев.
Мы втроем кивнули, как бы подтверждая, мол, мы так и думали, что к нам подсядет подполковник.
– Вы, возможно, слышали, – начал Игнатьев, – что здесь во дворе произошло убийство. Вот и приходится докучать отдыхающим своими служебными интересами… Вы уж извините…
– Да ради Бога! – заулыбался Мельников.
– По нашим сведениям убитая, Олёна Павлыш, могла бывать в этом заведении. Я покажу вам фотографии, некоторые из них найдены в квартире убитой, просьба взглянуть на них, вдруг кто-то на снимках покажется вам знакомым…
Мельников Александр Михайлович намерен был, мне показалось, тотчас объявить, что у него эфир на ОРТ, ждет Костя Эрнст, он запамятовал, разгильдяй, и надо бежать, но нечто колющее в его стуле пропало, и Мельников спасать эфир не помчался. Он даже первым забрал у подполковника фотографии. Перебирал их нервно, я подумал, что прежде всего он желал узнать, не запечатлена ли его персона в каких-либо компаниях на лживой фотобумаге.
– Нет, моих знакомых здесь нет, – в глазах Мельникова высветилось великодушие и желание способствовать правосудию.
Расхоже сказать – от сердца у него отлегло. Что не мог не заметить и подполковник Игнатьев.
– Вы не спешите, – сказал он, – вы взгляните еще раз… Снимки, конечно, неважные… Но вдруг с кем-то из их персонажей вы где-то пересекались…
– У меня глаз зоркий! – Мельников обиделся. – Об этом известно всем. Об этом писали братья Вайнеры. Поинтересуйтесь у них.
– Ну если братья Вайнеры, тогда конечно, – сдался подполковник. Он протянул часть фотографий мне, часть актеру Симбирцеву. – А вы не взглянете на лица?
– Отчего же, – сказал я. – Пожалуйста.
Но сейчас же сам обеспокоился, а вдруг и моя образина, пусть и на дальнем плане, вошла в обстоятельства криминальной истории? Впрочем, мне-то что беспокоиться? Нет, себя я нигде не углядел. А вот какая такая Олёна Павлыш начал догадываться. Буфетчица Даша права, я видел Павлыш в компании Мельникова. Мы обменялись наборами фотографий с Симбирцевым, ни звука при розыскных действиях не произнесли. «И тут нет знакомых, и тут никого, и тут, и на этом снимке…» – был вывод.
– Отчего вы вздрогнули? И остановились взглядом? – быстро спросил Игнатьев. – Кого-то узнали?
– Нет, – выговорил я нерешительно.
– И все же? – в голосе подполковника не было деликатности.
– Знаете… На самом деле лицо одной из девиц показалось мне знакомым… Может быть, я видел ее здесь… А может, и не видел… Это что и есть Олёна Павлыш? Вот эта, – и я указал пальцем на простенькую мордашку…
Девицу эту прежде я не видел. И в том, что она не Олёна Павлыш, был уверен. Олёну Павлыш я разглядел на летнем цветном снимке. Хоть давай на разворот глянцевого журнала. и в совершенном соответствии с аттестацией буфетчицы Даши. Рослая блондинка, ноги – от клюва фламинго, лишь сантиметров на пятнадцать защищенные от северных ветров джинсовой юбкой. Ну и так далее. Причем, к вешалкам-манекенщицам по причине нестесненности плечей и бедер Павлыш отнести ее было нельзя. Живописная эта особа, дитя небесное, способна была возбудить фантазии мужчин, вырвавшихся к благам из болот среднего класса. Добавлю, что в лице ее светилось несомненное благородство. Конечно, я видел ее в Камергерском, видел, и не мог не обратить внимание на упомянутые мною свойства ее облика.
– Нет, это не Олёна Павлыш, – сухо сказал подполковник Игнатьев. – Жаль, что такие наблюдательные люди ни единой мелочи нам не добавили. Но что поделаешь… И на том спасибо…
Силовые чины поднялись и последовали на кухню, чтобы продолжить, наверное, опросы персонала или направиться двором к корпусу убиенной.
– Не исключено, что нам придется и еще обратиться к вам за консультацией, – произнес напоследок подполковник, пожалуй, даже и с укором в голосе.
Минуты три мы сидели молча. Мельников, я видел, готов был сейчас же вскочить и объявить следствию публичный протест. Не вскочил. Симбирцев курил и глупо крутил зажигалку. А я нервничал. И вот от чего. На одной из фотографий в куче персонажей, разномастных, смешанных годами, и невдалеке от красивой в миг веселья Олёны Павлыш я увидел Андрюшу, Андрея Антоновича Соломатина. Давнего моего знакомца. Ничего о его жизни я не слышал более чем три года. А расстались мы с ним нехорошо. Я даже мог посчитать себя без причины обиженным. А потому говорить следователю что-либо о Соломатине при нынешних обстоятельствах мне не захотелось…
Мельников и Симбирцев сидели угрюмые. Симбирцев сходил за коньяком – «по пятьдесят». Подполковник Игнатьев не обременил нас, на манер героев Шелдона или Стаута, напоминаниями о ложных показаниях и юридической важности расследования убийства, до таких тонкостей розыскные и судебные дела в Москве еще не дошли. Но мне отчего-то было неловко и стыдно. И тревожно. Неужели у Соломатина по-прежнему все было наперекосяк? Но что я могу – или мог – изменить в его жизни?..
За соседним столиком смирно сидели пружинных дел мастер Прокопьев, знакомый мне еще по Столешниковой Яме, и пышноусый крепыш (сложение поэтического атлета Поженяна), этот, говорили, был с телеграфа. Чтобы отчасти отменить угрюмость застолья, я посчитал нужным пригласить к нам на свободные стулья телеграфного крепыша и Прокопьева.
Крепыш («Арсений Линикк», – протянул он мне руку) и Прокопьев к нам пересели, но ничего приятного от перемены ими мест не вышло. Мельников взглянул на Прокопьева хмуро, а Прокопьев и вовсе в его сторону не смотрел.
– Вы знаете, – обратился Симбирцев к Прокопьеву, – Александр Михайлович обрел родовое древо и герб. Герб этот обязательно будет присутствовать теперь не только на его деловых бумагах, но и на простынях, подушках, на всех составляющих нижнего белья, а уж диван-то его и кресла и вовсе станут невозможны без фамильно-гербовой маркировки.
– По поводу мебели Александра Михайловича, – сухо сказал Прокопьев, – это не ко мне.
– Ты, Николай, все же скотина и фигляр! – была резолюция Мельникова. – И так день, начавшийся удачей, испорчен. А ты и удачу мою пожелал осрамить ехидством.
Он поднялся в свирепости, откланялся нам, кассирше, буфетчице (вышло, что и негру), залу. И линейным кораблем последовал в океан.
– Ничего, ничего, успокоится, – заверил нас и в особенности Прокопьева сейчас же вскочивший Симбирцев. – Будут, будут у него у него гербы на письмах в бухгалтерию, и на кальсонах, и на туалетной бумаге, и на фарфоровых блюдцах…
Очень скоро выяснилось, что из двух оставшихся моих собеседников лишь на душе у Арсения Линикка – смирение и покой. Пружинных же дел мастер Прокопьев выглядел угнетенным, теребил волосы над висками.
– Неужели вы, Арсений, – спросил Прокопьев, – на фотографиях так никого и не признали?
– Ну как же! Эту Павлыш, зверски убитую, кобылу здоровенную, лошадь в яблоках, – сказал Линикк, – я здесь видел, что и подтвердил.
– А вот рядом с ней, такую… плохо причесанную…
– Плюгавенькую, что ли? Нет, не знаю…
– А я думал…
– Нет, нет! – будто отрубил Линикк.
Прокопьев же соображал: Линикк несомнено должен был знать ту, плохо причесанную… Именно после ее резких слов, после ее ухода-побега и возник странным образом в закусочной Линикк, и будто бы телеграфная лента поплыла перед Прокопьевым с мольбой о спасении… И мужчина лет сорока, запечатленный на снимке между Павлыш и той, Ниной, да, Ниной, франт, но похоже и злодей, был вроде бы знаком Прокопьеву… Кстати, а не стала ли теперь именно Павлыш тем самым жертвенным существом, о каком невнятно, но со значением бормотал не так давно Линикк, объявлявший себя Гномом Телеграфа? А он-то, Прокопьев, неужто отложен? Этакие странные расположения пружин получаются. Но стоит ли спрашивать сейчас об этом у Линикка? Незадача… А Линикк уже чуть ли не дремал, ус опустив в кружку с пивом. Муторно было на душе Прокопьева, слякотно…
– Людмила Васильевна, – спохватился я. – А что Васек-то касимовский рассказывает? Он-то, небось, очевидец. И соседку свою Олёну, небось, подвозил…
– Ой, ой! – вскинула руки кассирша. – Он как сегодня вбежал с желанием утолить, я ему говорю: «Не налью, пока не заплатишь деньги за отмену денег!» А он раскричался: «Ах так! Ах так! Да вас завтра же закроют из-за этого зверского убийства!»
– Закроют? – выплыла к прилавку повариха Пяткина. – Что же будет-то? Батюшки-светы! Николаи-угодники!
– Не закроют, – сказал негр. – Я куплю вашу закусочную.
8
На масленицу, в среду, Соломатин был удостоен чести посетить гостем дом Каморзиных.
Приглашением своим Павел Степанович Соломатина удивил. Никаких сближений натур после обретения в подвале Средне-Кисловского переулка сомнительной железяки, бочки так бочки, бакинского керосинового товарищества, так бакинского, у них не произошло. Соломатин не заводил разговоров ни о бочке, ни об Есенине. И Каморзин собеседовал с ним лишь в смыслах производственных интересов. Угрозы или хотя бы дурные предсказания мажордома с хлястиком не подтвердились в реальности. Упрямо написанные Соломатиным отчеты (правда, без резких оценок мокрой девицы), ясно, что после визита в дом техника-смотрительницы и ее резолюции, пошли в дело. Но как будто бы не вызвали раздражений миллионщика Квашнина, напротив, ущербы он, говорили, возместил с лихвой, а музыковеду Гладышеву даже привез из Гамбурга раритетные издания статей Мендельсона-Бартольди о забытом филистерами, увлеченными пошлыми мелодиями своего века, композиторе И.С. Бахе. Щедроты Квашнина были оценены в деловых газетах. О смытых дерзостями Соломатина выгодах Каморзин не вспоминал ни разу, тем более, что выгоды случались у них в других местах.
Соломатин поинтересовался, какой причиной вызвано приглашение. Павел Степанович смутился. То есть никакой особенной и тем более круглой причины нет, заверил Каморзин, а так, привычное домашнее застолье. «Вот именно домашнее…» – сказал Соломатин. Ну и что, ну и что, воодушевлялся Каморзин, вот и посидишь в уюте да с блинами, соответствий никаких не надо, все в доме есть. А вот мужиков для его, Каморзина, общения нет, с его стороны – одни бабы, а все мужики – в жениной родне. Девки его все время пристают, отчего он такой нелюдимый, отчего не приводит в дом, хоть бы в шахматы поиграть или в шашки, кого-нибудь из своих коллег, лучше бы, конечно, годами помоложе. Приличных, что ли, среди них нет? «Не убудет же тебя, – заключил Каморзин. – Не понравится, уйдешь…» «Не убудет», – согласился Соломатин.
На всякий случай Соломатин купил бутылку «Гжелки» и две банки красной икры. Проживал Каморзин невдалеке от метро «Пролетарская» в доме из предпочтительных, на первом этаже его выводили из клинических смертей часы, согласно гарантиям. Квартира Каморзина оказалось не тесной, в три комнаты. По московским понятиям – в две спальни. Деликатны наши московские понятия, усмехнулся Соломатин, скромны и деликатны. Восклицания Соломатина: «Какая кухня! Какая ванная!» вышли искренними, узнавать же историю обретения Каморзиным приличного жилья Соломатин не стал, вряд ли бы она удивила его. Но Павел Степанович, сам при этом будто бы стесняясь житейской удачи, разъяснял: «Райисполком… очередь… рабочий класс… я, то есть…» Представлен был Соломатин жене Каморзина Фаине Ильиничне и трем его дочкам. Фаина Ильинична, работавшая инженером на химическом заводе, дама в соку, крупная, пышноволосая, с ровным откатом розово-рыжих волн к затылку, отчего-то показалась гостю похожей на экскурсовода Политехнического музея. «Причем тут музей! Что за чушь!» – отругал себя Соломатин. Одета Фаина Ильинична была скорее строго, нежели празднично или, предположим, весело. Толстые высокие каблуки возводили эту строгость в прямоту. «Прежде всего она женщина – степенная и опрятная», – решил Соломатин. И в доме Каморзиных все выглядело степенным и опрятным. Даже мелкие шурупы в дверных ручках. Не удивили Соломатина и книжные полки в гостиной и в «покоях» Каморзиных взрослых. Фаина Ильинична была прилежной читательницей и платила взносы в обществе книголюбов. И украшение комнат было – степенное, на стенах висели репродукции, Левитан, Кустодиев, Врубель, а кое-где, под стеклами, – вышивки здешней мастерицы, с узорами и сюжетами – Аленушка тоскует по братцу, старик тащит невод с рыбкой, и даже некий работник в синем комбинезоне, с разводным ключом в руке, из ключа произрастает роза, возможно, работника вышивали с самого Павла Степановича. Понятно, виднелись за стеклом серванта хрустали, гжельские и богородские поделки, и прочее, и прочее, привычное. Словом, квартира была среднего московского инженера без затей и богатств.
Впрочем, гостиную и «покои» Соломатин оглядел как бы мимоходом (а детскую ему и не показали). К застолью он опоздал, и Каморзины торопились направить Соломатина к блинам. Свежему гостю, естественно, обрадовались. Но вспышка радости ограничилась штрафной рюмкой. Далее все продолжили свои беседы. Лишь две соседки и Фаина Ильинична приглядывали за Соломатиным, горками украшали его тарелку и направляли его вилку. «Эти блины на молоке, а эти на кефире…» «Чем же они хороши на кефире-то?..» «Ну как же, как же! – вышло возражение. – Кайфу больше! Вот Муравьева пробовала на йогурте, и вышли сладкие оладьи». Понятно, что Соломатину были рекомендованы благоудовольствия к блинам. Сметана, масло растопленное, рыба красная, красная же икра, селедка, варенье с дачи, соленые грибы, клюква, протертая в сахаре, горячие сосиски (хочешь – сотвори хотдоги), а также прожаренная до сухости, мелкая, будто корюшка, печорская навага («Печорская, только к масленице и бывает, вы хребет из нее извлеките, заверните в блин, макните в горячее масло…»). Соломатин последовал совету и получил удовольствие.
Гостей сидело за столом человек пятнадцать. Все более в возрасте Павла Степановича и постарше. Присутствовало и молодое поколение – три дочери Каморзиных и их кузены – юноша и девица лет двадцати трех. Рассматривать дочерей напарника у Соломатина особых возможностей не было, он лишь уверил себя в том, что они – разные, и именно не по годам, а по облику и натурам, то есть будто из разных семей, разной породы. А вот племяннице Елизавете гостем было уделено больше внимания, он нет-нет, а взглядывал на нее поверх блинных горок и салатниц с солеными грибами. Но делал это, как бы не желая, не по своей словно бы воле. Эта племянница Елизавета, выходит, вытягивала из него взгляды. Буравила нечто в нем. «Она смешная», – нашел объяснение Соломатин. В этом установлении кочевряжилась опасность. Смешными Соломатин признавал особ ему симпатичных. Впрочем, что смешного было в этой баловнем сидевшей за столом девице? Если только уши. Они торчали, действительно, забавно. Ну и все. Ну, приглядная и не вульгарная. Веселая, шумная, светится, – но ведь в своей компании, однако чувствовалось, что и в любой компании она не скиснет и не растеряется, а если сложится сюжет и выйдет кураж, то и на столах спляшет. Угадывались в ней своеволие, а то и дерзость. «Да что это я? Таких-то пруд пруди, обычная капризная шалунья, что на нее пялиться? – осерчал на себя Соломатин. – А вот с печорской навагой и подгруздями солеными каждый день не отобедаешь!» Однако, когда (а еще не иссякли блины и не состоялось приглашение к чаепитию с тортом) Елизавета поднялась, синюю ленту стянула с головы, отчего темнорусые волосы ее рассыпались и укрыли остроту ушей, заявила, что извините, надо нестись, дела, дела, может еще вернется, и убежала, Соломатин опечалился. Раздосадовался даже. Будто эта самая племянница Елизавета нарушила некую тайную договоренность с ним. Или по крайней мере не выказала к нему интереса и уважения.
А к нему и никто за столом не выказывал интереса или особого уважения. Разве только соседка, предпочитающая в тесте кефир. О занятиях его знали, а потому не ожидали от него увлекательных суждений или сведений. Властителем интересов за столом оказался нынче шурин Каморзина Марат Ильич, крепкий, лысый мужчина с лицом зубного техника. Марат Ильич был доктор наук и, как выходило из беседы, заведовал магнитными полями. На руке у него имелся магнитный браслет якобы с бастионными для здоровья целями, к солнечному сплетению Марата Ильича – ради имиджа института – спускалась цепочка из магнитных колец, на нее зарились несмышленые новые русские. По убеждению Марата Ильича и по его науке, нефтедоллар скоро, не позже, чем через четверть века, будет отменен, нефть, уголь, ураны и плутонии, как источники энергии, прикажут долго жить, а процветанием человечества займутся магнитные и иные, родственные им поля.
– Неужели ваши магниты, – засомневалась соседка, предпочитавшая добавлять к муке молоко, – способны излечить воспаление седалищного нерва?
– Способны, – Марат Ильич поморщился мелочности вопроса.
– А вот, скажем, трения… или там взаимопроникновения магнитных полей… или даже иных – с ними… – робко поинтересовалась сторонница кефира, – не могут ли они вызвать новый… и нежелательный… виток сексуальных падений?
– Не исключено, – сердито сказал Марат Ильич. – Но серьезных ученых это не должно волновать.
Высокомерие Марата Ильича, вполне возможно, обоснованное, возбудило раздражение Соломатина. А может, взыграла досада из-за взбалмошного ухода шалуньи капризной, из натуры Соломатина не изошедшая. Соломатин решил съязвить. Он пожелал поинтересоваться, как рассудил бы наш ученый муж соображения персонажей «Серапионовых братьев» двувековой давности о модных тогда и как будто бы всемогущих явлениях – магнетизме и месмеризме. А если бы оказалось, что Марат Ильич эрудит, Гофмана читал, и сумел бы примагнитить магнетизм Месмера и ночные бдения естествоиспытателей к своим полям, либо же, напротив, угнал бы Месмера в измерения безрассудства, Соломатин тотчас же преподнес бы и еще вопросец. А не помнит ли достопочтенный Марат Ильич, какой чай заваривали в Берлине опровергатели и поклонники магнетизма? У Гофмана написано – кяхтинский чай. Судьба заносила Соломатина в Кяхту с торговыми рядами и храмами времен Елизаветы на границу с тугриками и аратами. Но в Кяхте чай не произрастал. Однако, сюда, на окаем империи чай прибывал из Китая. Удивительным некогда показалось Соломатину берлинское выражение да еще и попавшее в «Серапионовы братья» – «кяхтинский чай»… Но охладив себя, Соломатин ехидничать раздумал. К тому же к нему подсел Каморзин.
– Ну как, Андрюша, червячка-то заморил? – спросил он.
– Да вы что, Павел Степанович! – воскликнул Соломатин. – От стола надо бежать! Но слаб я в масленицу, слаб!
– Ну вот и славно, – разулыбался Каморзин. – Я, стало быть, могу утянуть тебя на пять минут к своему интересу…
Тут и открылась причина приглашения Соломатина к блинному столу.
По дороге в «покои» Каморзин (можно сказать, что и робея) посвящал Соломатина в свой интерес:
– Я тебя чертежик один попрошу посмотреть… Точнее, набросок, скажем, первоначальный… Эскизик постамента…
Главами раньше приводилось первое впечатление многих о внешности будто бы звероподобного сантехника Каморзина: мордоворот и злодей, а может – и убийца. Нынче Павел Степанович надел выходной темносиний костюм (двубортный, тройку), пошитый, наверное, лет пятнадцать назад с лишними, из-за особенностей фигуры заказчика, примерками, и никак не походил ни на зверя, ни на злодея. Очки же, вздетые им на нос, совершенно лишали критиков Каморзина возможности признать его лупоглазым. А черные кусты над очками вызывали сравнение со значительнейшими бровеносцами эпохи. Соломатин знал: в часы отдохновений Павел Степанович носил махровый халат, и в халате с вышитыми Фаиной Ильиничной по синему фону королевскими пингвинами он вряд ли бы внушил кому-либо дурные подозрения.
В «покоях» Каморзин пригласил Соломатина к небольшому столу с выдвижными ящиками, возможно, самодельному, но изготовленному с изяществом. К рассмотрению Соломатину были предложены несколько листков. Соломатин чуть ли не присвистнул, чуть ли не вскричал: «Вон чему учудил Павел Степанович соорудить постамент!»







