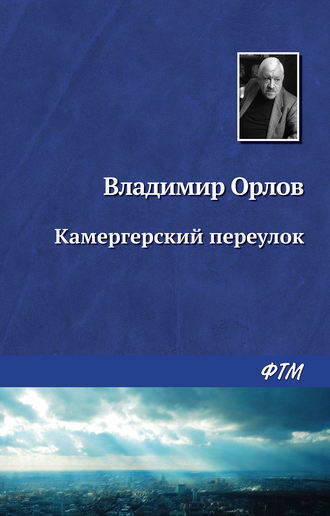
Владимир Орлов
Камергерский переулок
– Ну что, Оценщик, просмотрел свою мыльную оперу? – услышал он.
Он сидел на Тверском бульваре на желтой скамейке в сухой безветренный день. Рядом ухмылялся мужик в камуфляже и кирзовых сапогах. Старательный исполнитель Сальвадор-Ловчев.
– Ну и как? – спросил Сальвадор. – Будешь и дальше артачиться? Или как?
– Я не понимаю, – сказал Оценщик, – смысла вашего обращения ко мне.
– Не обращения, а требования, – сказал Сальвадор. – Я тебя вразумлю. Олёну шеф запретил, мягко сказать, трогать. И дело не в его лирических воспоминаниях, а в том, что шеф стал набожным. Церковь поставил у себя за забором. Пожертвования производит. Орден у него на цепи. Следует заповедям, – в словах Сальвадора Оценщик уловил усмешку, вполне объяснимую. – Люди же при нем служат из тех, кому никакие грехи не страшны. Они им в радость. И они неуравновешенные. И если ты хочешь Олёну уберечь, убереги ее.
– Каким образом? – спросил Оценщик.
– Не нужны поводы расспрашивать Олёну с воздействиями… Так скажем.
– То есть – пытать?
– Понимай, как понимаешь.
– Никакие ваши требования выполнять я не буду! – с раздражением произнес Оценщик. Сальвадор и его слова вызывали в нем протесты и желание дерзить.
– Оценщик, – Сальвадор опять выговаривал слова, будто совершенствуя дикцию, – ты смотрел хотя бы первую серию фильма под названием «Место встречи…»? Смотрел… В этой серии на лавочке остается сидеть человек в кепке, вызванный МУРом из Ярославля. Остается сидеть бездыханным… Сейчас я произведу движение и точно таким человеком станешь ты. Ты меня знаешь. Я не шучу.
– Что вам от меня надо? – выговорил Оценщик.
– Малости. Сказать нам, где Олёна держит серьги Тутомлиной, есть ли у нее тайник и если есть, где он.
– Серьги, по всей вероятности, она не сбыла. Но где они, она не посчитала нужным мне открыть. Тайник у нее есть, проговорилась, но где он – в квартире или в ином месте, мне тоже неизвестно. Я ни о чем не умалчиваю…
– Верю, – сказал Сальвадор. – С паршивой овцы хоть шерсти…
– И все? – спросил Оценщик.
– И второе, – сказал Сальвадор. – Раз не знаешь, где тайник, узнай. Убеди эту шлюху, эту суку продажную в том, что ее положение серьезное. Что ей выгоднее серьги вернуть и все свои секреты открыть шефу. Иначе ей будет плохо.
– Попробую, – сказал Оценщик. – Но вряд ли выйдет толк…
– А ты уж постарайся! – приказал Сальвадор. – И про себя подумай!
Сальвадор снова вызвал ненависть Оценщика и желание дерзить.
– Слушать она меня не будет, – сказал он. – Она – сама по себе! Я сам по себе!
– Ясно, – вздохнул Сальвадор. – Разговор с тобой, выходит, был почти напрасный. Но с паршивой овцы хоть клок… Ладно. Не поминай лихом. Все.
Сальвадор ткнул Оценщика в бок, встал и неспешно направился в сторону подземного перехода.
Оценщик остался сидеть. Козырек кепки по прежнему прикрывал кончик его носа. На скамейку к нему никто не присаживался. У прохожих он не вызывал ни воробьиного интереса. И если бы даже гипотетический наблюдатель попробовал со вниманием рассмотреть человека в кепке, он вряд ли бы понял, дремлет ли тот, размышляет, отделившись от суеты света. Или он уже не способен ни дремать, ни размышлять.
4
Но в те дни уже пробуравило сознание многих: скоро, очень скоро закусочную закроют. Будто бы она общепитовский анахронизм. Напротив, в помещениях некогда лелеемого властями магазина Политической книги (первоисточники, избранные статьи и речи Суслова, иных стратегов и мыслителей, общественные наставления и пр.), заалел призывными огнями ресторан «Древний Китай», а под огнями зазеленели изломами будто бы крыши фанзы. Ежевечерне ресторан был пуст, как и недальнее от него «Артистико», некогда шумное и достойное посещений кафе. Как уж тут было устоять закусочной, в нее уже упирался псевдо-ностальгический ресторан «Оранжевый галстук» с кружкой пива за сто двадцать рублей и несворачиваемостью звуков группы «Браво».
Прокопьев, естественно, не мог не опечалиться. Что ему теперь было размышлять о непутевой девице Нине, чьей-то секретарше либо конторщице, если возникла опасность изведения камергерской солянки.
Конечно, не один Прокопьев опечалился. И меня предстоящее закрытие закусочной не обрадовало. Помимо всего прочего я опять ощущал себя винтиком. За меня принимали решения декоративный рабочий Шандыбин (уже тогда вошло в поговорку: «Умен, как Шандыбин») и декоративный крестьянин Харитонов. Этих бы удрученных народными заботами бессеребреников снабдить серпом и молотом и отпустить постоять на свежем воздухе взамен утомившемуся мухинскому творению. Но названные двое и иже с ними пеклись обо мне на государственном уровне. Теперь, в случае с закусочной, дяди и тети с кошельками намерены были показать мне, кто и в моей повседневности хозяин. Впрочем, о моем существовании они и знать не знали. В их расчетах я входил в общую толпу способных принести выгоду.
Хотя, конечно, надо было дождаться решительного закрытия дверей закусочной, а уж тогда печалиться. Но мы до того привыкли пребывать в ожиданиях неприятностей и перемен к худшему (вроде бы возникло нечто полуустойчивое, но не верим в него, вот-вот упадут цены на нефть и нате вам – обвалы, дефолт, сухие лепешки), что для нас главным становится и не жизнь, а именно ожидание неприятностей. Или нелепиц и невероятных поворотов судеб. И поэтому естественным показалось в закусочной заявление уже знакомого Прокопьеву местного частного извозчика, водилы-бомбилы родом из Касимова, Василия Фонарева.
Васек, а день был холодный, с ледком на тротуарах, опять явился в майке и шлепанцах на босые ноги. Он заказал сто пятьдесят граммов водки с кружкой пива и весело направился к столику Прокопьева.
– Васек, а деньги? – брошено было ему в спину кассиршей Людой.
– Какие, Людмила Васильевна, деньги? – удивился Васек.
– То есть как, какие деньги?
– Да вы что! Денег теперь нет. Их отменили.
– Когда отменили?
– Сегодня утром.
– Все деньги?
– Не знаю, как в других странах. А у нас – все.
– От кого ты слышал?
– По телевизору объявили. Ровно в двенадцать.
– Ты сам слышал?
– Мне-то зачем? Полковник слышала. Сначала заплакала. Потом обрадовалась. Стерва!
– К вам опять, что ли, гуманоиды прилетали?
– Нет, не прилетали. Уже неделю как не прилетали. Совсем обнаглели. Башки бы им поотрывать! Вот полковник от расстройства и послала меня в «Красные двери» за бутылём.
– И деньги тебе дала?
– Какие деньги! – возмутился Васек. – Я же вам объясняю: деньги отменили. Вы, Людмила Васильевна, сегодня какая-то бестолковая. И зря вы сидите сейчас за кассой. Нет денег. Нет касс. И нет кассирш.
– Нет, Васек, погоди… – кассирша Люда и впрямь растерялась. – Последите за кассой (это – к Прокопьеву), я сейчас переговорю с администрацией…
Возвращения Люды Васек дожидаться не стал, а освободив от жидкостей кружку и стакан, ринулся, по всей вероятности, в магазин «Красные двери» выполнять указание стервы-полковника. Позволил себе лишь бросить Прокопьеву:
– Банка воды из Касимова за мной. А как же? Трехлитровая.
Беседа кассирши Люды с администрацией вышла долгой, возможно, со справочными звонками кому-то, из кухни кассирша выскочила в возбуждении.
– Где Васек-то? Где этот жулик? Деньги, видите ли, отменили! Сейчас мы его отловим, грабителя!
Она пронеслась мимо столиков, вырвалась на просторы Камергерского, разнесенному в клочья должно было стать частному извозчику Василию Фонареву, обижаемому гуманоидами! Однако опоздала Людмила Васильевна, опоздала! Не был ею отловлен шустрый нынче касимовский уроженец.
– И их облапошил Васек-то! – возмущалась, но при этом и радовалась Людмила Васильевна. – Попросил дать ему бутылку водки, мол, посмотреть, какого завода, не осетинского ли, потом объявил, что деньги отменены с полвторого и утек. А в «Красных дверях» все рты пооткрывали и будто в полы вмерзли. Вот ведь жулик! Вот ведь молодец отчаянный! Но ничего! Я его достану! Я его обнаружу! Я знаю, где его форточка! Я на него еще трех гуманоидов натравлю! Вот с такими ниппелями!
Следом в закусочной появились актер Николай Симбирцев, Прокопьев уже знал его фамилию, и первейший знаток прекрасного Александр Михайлович Мельников. Опять без церемоний они присели за столик Прокопьева. Об отмене денег они явно не слышали и к радости Люды оплатили выпивку и бутерброды. Кивнув Прокопьеву как несущественно знакомому, они продолжили разговор, возникший, видимо, по дороге в закусочную.
– Врешь ты, Шурик, врешь! – радостно говорил Симбирцев, поднесший ко рту рюмку коньяка. – Все ты знаешь, а кто такой Пуговицын не знаешь. И никогда не знал. Хотя и совал рожу в книги.
– Фу! Как ты неблагородно говоришь! – возмутился Мельников. – Ну груби мне, груби! Ничего не изменится! Конечно, я хорошо знаю Мишу Пуговкина…
– Да не Пуговкина! А Пуговицына!
– Какого такого Пуговицына?
– Значит, ты плохо читал Гоголя.
– Николай Васильевич мне как отец! – программно заявил Мельников. – Я знаю его наизусть!
– Значит, не знаешь.
– Знаю, знаю, – Мельников капризно и как бы даже устало взмахнул рукой. – Успокойся. Кого кого, а уж Николая Васильевича…
– Хорошо, – сказал Симбирцев. – Ответь на вопрос кроссворда. Персонаж комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Девять букв. Первая «п», последняя «н».
– Мало ли какие идиоты составляли твой кроссворд! – поморщился Мельников.
– Не важно какие, – сказал Симбирцев. – Я открыл томик Гоголя и нашел в «Ревизоре» Пуговицына.
– И кто же этот Пуговицын? – Мельников, похоже, был удивлен искренне.
– Выскажи предположения…
– Наверное, кто-то из купцов с приношениями…
– Полицейский! – объявил Симбирцев. – Полицейский. Один из трех. Держиморда, Свистунов и Пуговицын. Квартальный. Но в отличие от Держиморды и Свистунова слов не произносит, а вместе с десятскими подчищает тротуар.
– Ну конечно же! – Мельников вскочил, вызвав недоумение в зале. – Я ведь перед тобой дурака разыгрывал! Ваньку валял! Будто я не знаю, кто такой Пуговицын! Я, когда ставил «Ревизора» в Твери…да, в Твери…Пуговицына сделал главным героем. Я ведь понял замысел автора. Понял! И он, Николай Васильевич, потом являлся ко мне в сны и мои догадки подтвердил. «Молодец, Шура, молодец! – по плечу меня похлопал. – Никто, Шура, не разгадал мой потайной замысел, а ты разгадал! Докумекал!» А как же? Главная сцена в «Ревизоре» – немая. И главный герой с объявленной фамилией Пуговицын – немой! Тротуар подчищает, да еще и с десятскими, для отвлечения смысла.
– Какой репримант неожиданный! – рассмеялся Симбирцев.
– Что ты имеешь в виду? – присев, поинтересовался Мельников.
– Это не я имею в виду, а одна из дам в «Ревизоре». Как раз перед немой сценой.
– Опять ты шутки шутишь! – обиделся Мельников. – Просто ты не можешь понять силу, нет, мощь моего замысла.
– Да видел я твой тверской спектакль! – сказал Симбирцев. – И не было в нем никакого немого квартального Пуговицына!
– Не было! Конечно, не было! – согласился Мельников. – Меня этот стервец Меньшиков подвел, Олег. Зазнался. Нос задрал. В Тверь не поехал.
– Да что он у тебя делал-то бы?
– Как что! Как что! – воскликнул Мельников. – Его немой Пуговицын присутствовал бы во всех сценах, и именно все сцены от того вышли бы столь же значительными, как и знаменитая финальная.
– По-моему, ты все это теперь придумываешь, – в задумчивости произнес Симбирцев. – А прежде ты ни про какого Пуговицына не ведал и не думал.
– А хоть бы и теперь! – все более воодушевлялся Мельников. – Осознай, какое смелое решение! Никому в голову такое не приходило. Даже Мейерхольду! Только мне. Ну и еще, конечно, самому Николаю Васильевичу. Конечно, и ему тоже. Послушаем Прокопьева, пружинных дел мастера. Прокопьев, Сергей…
– Да просто Сергей! – вздрогнул Прокопьев. Произнесение звуков далось ему нелегко, он ощущал себя онемевшим персонажем.
– Вот, вот! Что вы-то скажете о значении в «Ревизоре» немого квартального?
– Я…Я и не думал… – растерянно заговорил Прокопьев. – Я и не помню, что Пуговицын есть в «Ревизоре»… Но по-моему вы, Александр Михайлович, все очень убедительно разъяснили…
– Вот, Николай, вот! Простой-то человек как все чувствует! Ты – смеешься, а он – понимает! – Мельников разулыбался, он, похоже, гордился теперь Прокопьевым, будто достойным своим адептом. – Мастер – золотые руки! Кстати, а как обстоят дела с моим диваном и креслами? Я ведь звонил вам…
– Вы звонили, – кивнул Прокопьев. – Мы договорились, что я зайду к вам вечером в среду. Я заходил. Но дверь мне не открыли.
– В доме была одна собака, – вспомнил Мельников.
– Она мне не открыла…
– И правильно сделала! – одобрил собаку Мельников. – А то пришлось бы и в вас исправлять пружины!
– Но ведь мы с вами договаривались, – произнес Прокопьев почти резко.
– Да! Да! – героем «Разбойников» Шиллера принялся вышвыривать из себя слова Мельников, укор Прокопьева явно не понравился ему. – Да, я просил вас оказать услугу! Но в среду вечером тени мастеров прошлого заставили меня отвлечься от ваших пружин!
И рука Мельникова словно бы отбросила от себя диванные пружины.
– Хорошо, будем считать – моих пружин, – сказал Прокопьев.
– Шура! – возликовал Симбирцев. – Ты как птица скопа над речным простором. Паришь в небесах над людьми!
– Ты бестолочь и пошляк, Николай! – воскликнул Мельников. – Ты ввел меня в раздражение Пуговицыным, а теперь изводишь пружинами! Я не могу… Тебе стоит швырнуть в лицо перчатку с вызовом!
Мельников вскочил и понесся из закусочной. Симбирцев рассмеялся, произвел рукой некое движение, как бы одобряющее Прокопьева и его пребывание на Земле, и степенно последовал за попечителем Теней.
– А не вызовет ли он его теперь на дуэль? – тихо сказал Прокопьев, ни к кому не обращаясь. – Из-за Пуговицына и моих пружин…
– Кто кого? – удивилась кассирша Люда.
– Мельников Симбирцева…
– Ой! Ой! – воскликнула Люда, но чувствовалось, что соображение о дуэли вызвало в ней радость. – Для них же деньги не отменили! Какие могут быть между ними дуэли? Это Васек Касимовский норовит перебить гуманоидов. Я ему устрою! Каков! Кафе и без кассирш! Ну ладно, без денег! Но как же без кассирш-то? Водила отчаянный!
А в закусочную тем временем вошел знакомый Прокопьеву Арсений Линикк, объявивший себя днями назад печальным Гномом Телеграфа.
– Сенечка к нам пожаловал! – обрадовалась Люда. – Душка ты наш!
Прокопьев уважал людей обязательных, сам старался держать слово, а потому действия достопочтенного Александра Михайловича Мельникова породили в нем недоумения. Впрочем, ему ли судить о загадках натур из поднебесий искусства? Но то, что он уже не пойдет починять диван и два кресла, обитые кожей, он постановил. Даже если Александр Михайлович извинится перед ним и станет рассыпать бисер, он в его дом не пойдет. Деньги? Ну и что деньги? Митя Шухов, тот, в нынешнем случае и виду не подал бы, взялся бы возрождать диван с креслами, но вряд ли владелец мебели получал бы потом от нее удовольствия и комфорт.
– Я присяду рядом с вами? – спросил Линикк.
– Конечно, конечно! – сказал Прокопьев, – О чем речь!
Закуской к водке Линикком был выбран бутерброд с красной икрой.
– Это я теперь такой маленький, – объявил Линикк, – а еще совсем недавно я был девяносто метров в длину, двадцать в ширину и восемь в высоту…
Прокопьев все еще был в соображениях о дискуссии Мельникова с актером Симбирцевым (высокомерие Мельникова к ремеслу пружинных дел мастера его уже не знобило, дело определилось и рассеялось). Но неужто приятели и впрямь могут затеять дуэль или просто разругаться, продолжал гадать Прокопьев, и оттого слова Линикка о каких-то метрах в высоту и длину всерьез воспринять он не смог. Но Линикк будто бы ждал сострадания, и Прокопьев пожелал возразить.
– Какой же вы маленький! Ну, по нынешним временам рост у вас небольшой. Метр шестьдесят три, на взгляд. Но в плечах и в теле вы – атлет. На Олимпиаде в штанге вы все медали могли бы отнять у турок. И усы у вас гренадерские.
Линикк слов Прокопьева вроде бы не расслышал, вздохнул, отпил водки, укусил бутерброд и, помолчав, спросил:
– Вы хотите знать, где теперь Нина и что с ней?
– Какая Нина? – Прокопьев чуть ли не испугался. – И зачем мне знать о какой-то Нине?
Линикк с минуту внимательно смотрел в глаза Прокопьева.
– А что вы так волнуетесь? – сказал Линикк. – Если вы не помните о какой-либо Нине и ничего не хотите о ней знать, стоит ли вам волноваться?
– Я и не волнуюсь… – стал утихать Прокопьев. – Нисколько не волнуюсь…
«Нет, надо положить конец походам в Камергерский, – повелел себе Прокопьев. – Нелепости одна за другой. Деньги отменили. Мельников отчитал, будто я виноват в его затруднениях. Теперь Нина фантомная…Конечно, солянки здесь хороши, но ведь и в иных местах они, наверное, есть…»
– От пола до потолка здесь сколько метров? – спросил Линикк.
– Метров пять… – предположил Прокопьев. – Да, пять метров.
– Вот, – сказал Линикк. – А каким существовал я? Девяносто метров на двадцать и восемь в ширину!
– Какие же у вас тогда были усы? – удивился Прокопьев.
– А-а-а! – махнул рукой Линикк. – Какие полагались. И все нутро мое завезли из Германии. Поверженной. В сорок восьмом. Прошлого века. Потом, понятно, заменили многое. А теперь у нас хозяева – паучки из сети-паутины. Меня же расписали в Гномы…
«Ну ладно… – успокаивался Прокопьев. – Я-то забоялся, что он меня в тяготы Нины, той, разревевшейся, с дурной прической, пожелает втравить и действий потребует, а у него, похоже, здравого смысла в голове и на три гроша нет…»
– У меня иные представления о гномах, – не смог все же удержаться Прокопьев.
– Ваши представления, – сказал Линикк, – ничего не изменят.
– Мое существование в мире, – вздохнул Прокопьев, – вообще ничего не может изменить.
– Вот это вы напрасно, – покачал головой Линикк. – Это как сказать. Вы о многом не знаете. А кое-что от вас может зависеть не только в мебелях, но и в судьбах иных людей. Да.
«Сейчас он опять начнет подсовывать мне Нину нечесанную», – возмутился Прокопьев.
– И что же на телеграфе нашем Центральном вы так и числитесь Гномом? – съехидничал Прокопьев. – Об окладе гнома я не спрашиваю из соображений приличия…
– Отчего же… – Арсений Линикк будто бы смутился, усы его углами потекли вниз, – отчего же… В штатном расписании я числюсь инженером по технике безопасности… Надзираю над кабельным хозяйством… оклад соответственный…
– Простите за бестактность, – сказал Прокопьев, – я ощущаю, что вы проявляете ко мне некий интерес. Или я ошибаюсь?
– Нет, не ошибаетесь.
– И в чем же ваш интерес?
– Вы жертвенное существо, – произнес Линикк, как показалось Прокопьеву, торжественно и печально. – Но вы в этой истории – не главный. Главные в нем – другие…
– Вы сейчас – гном или этот… по технике безопасности? – спросил Прокопьев.
– Именно этот… по технике безопасности! – захохотал вдруг Арсений Линикк.
Он выглядел сейчас весельчаком, шляхтичем с кубком на попойке у пана Вишневецкого, но Прокопьеву стало не по себе.
– А ты, Сенечка, опять про своих кобелей заливаешь, – заметила долго молчавшая кассирша Люда.
– Ну, вот вы снова, Людмила Васильевна, надо мной насмешничаете! – всплеснул руками Линикк. – У меня в хозяйстве кабели, кабели, а не собаки! До слез обидно, Людмила Васильевна, до слез!
Однако никакие жидкости усы Арсения Линикка не омочили.
– А тебя, Сенечка, днем Тоня спрашивала, – объявила кассирша.
Линикк вскочил.
– Чур меня! Чур! Что же вы меня раньше-то не предупредили! Бежать, бежать!
И явно испуганный Линикк, переставляя ноги по утиному, унес из закусочной свое основательное тело.
– Вот трепач-то! – рассмеялась кассирша. – Он теперь еще и Гном Телеграфа!
– А разве не гном?.. – будто бы и не к кассирше, а к самому себе обращаясь, произнес Прокопьев.
– Какой же он гном! – хохотала кассирша. – Сколько лет его знаю, и Пилсудским был, и Маннергеймом, но гномом никогда!
Однако Прокопьеву было не до смеха. Его била дрожь. «Вы жертвенное существо, – звучало в нем, – вы жертвенное существо…» Он пытался образумить себя, признать Арсения Линикка личностью несерьезной, мягко сказать, а то и ущербной и уж, конечно, по версии кассирши Люды, трепачом. Но что это меняло? Пусть даже вечернее явление некоей Тони могло сокрушить дух Гнома Телеграфа или погоняльщика энергий по медным нитям. Ущербные и блаженные умели предрекать…Кто же определил его, Прокопьева, в жертвенные существа? И за какие такие свойства натуры? Причем ведь не в жертвенного человека, а именно в существо. В барана, что ли, коему суждено рухнуть в день сабантуя? Или в агнца, еще не откормленного и невинного? За что ему такая участь? Но ведь история с агнцем – история символическая, в символ чего могли произвести его, Прокопьева Сергея Максимовича, и что нынешней жертвой намерены были искупить, уберечь или спасти? Или кого улестить? Никакие разумные разъяснения в голову Прокопьеву не приходили…
– Да что это вы, – обеспокоилась кассирша Люда, – Сергей…
– Максимович, – подсказал Прокопьев.
– Сергей Максимович, что это вы так разволновались-то? Сенечка наш не только трепач и запуган подругой Тоней, у него еще и сотрясение было.
– Сотрясения у всех были, – стараясь не выказать дрожь, выговорил Прокопьев.
– И у вас сотрясение было? – удивилась Люда. – Ой! Ой!
– Я не про мозги, Людмила Васильевна, – мрачно сказал Прокопьев, – я про иные сотрясения…
– Ну, те-то сотрясения всем известны, – уточнение Прокопьева вроде бы кассиршу разочаровало. – Те-то что! А вот Сенечка головой падал на камни, не нарочно, конечно, но с кровью… А вы, ишь, как взъерошились! Вы лучше еще солянку закажите. А к ней и сто граммов.
– Солянку, пожалуй, отложим, – сказал Прокопьев. – А вот сто граммов, Дарьюшка, будьте добры, налейте.
Дарьюшкой Прокопьев (отчасти смущаясь – слащавости, что ли, своей или даже угодливости) назвал двадцатитрехлетнюю буфетчицу, гарную хохлушку из-под Херсона, нашедшую приют у родственников в Долбне. Дома ее окликали Одаркой, да и в Камергерском она ощущала себя Одаркой, однако для Прокопьева, знакомого с комической оперой Гулак-Артемовского, Одарка была дородной и скандальной бабищей, проживавшей за Дунаем, и иной осуществиться не могла.
Сто граммов дрожь Прокопьева отменили, но усатую рожу Арсения Линикка из его соображений не вывели. «И не главный я в этой истории, – вспоминал Прокопьев. – Да и отчего же мне быть главным, я всегда семистепенный…Главные – короли, ферзи, ладьи, а я пешка…Но принесение в жертву пешки – дело пустяшное… Неужели Линикк имел в виду шахматную партию? Вряд ли…» Шахматами Прокопьев не увлекался, а потому мысль о ферзях и пешках продолжения не получила.
А внимание кассирши Люды, как и буфетчицы Дарьюшки (позже Прокопьев называл ее Дашей), было уже занято явлением шумной дамы с двумя раздутыми сумками. Дама была коммивояжеркой, хорошо знакомой в закусочной, привычнее говоря, толкачом-коробейником ходового товара. Она и ее сотоварки обслуживали в округе служительниц продуктовых магазинов и всяких, по их мнению, забегаловок. Производили они впечатление продувных бестий, в отличие, скажем, от хрустальщиц. Те предлагали свои хрустали и фарфоры не то чтобы смущаясь, а словно бы стыдясь всего мира. Им на заводах в дни расплат вместо денег выдавали изделия, и приходилось путешествовать в столицу в надежде на щедрости москвичей. Сегодняшней коробейнице стесняться было нечего. Сумку свою она набила халатами, юбками, колготами, бельем и прочими дамскими радостями. Сейчас же за буфетной стойкой и на кухне начались смотрины товаров, примерки, с восторгами, вздохами, шлепками, нервными похихикиваниями, будто бы вызванными щекотаниями. Понятно, что к поварихам и уборщицам не могли не присоединиться буфетчица и кассирша. «Сергей Максимович, за кассой приглядите», – было брошено благонадежному посетителю. Увы, увы, фейерверк жизни не состоялся нынче для Людмилы Васильевны. Ничто – ни шелковое, ни хлопчатобумажное, ни льняное, ни из искусственных волокон не оказалось безупречно приложимым к ее телу.
– Да, Тонечка, ты уж извини, – говорила Люда коробейнице, вернувшись к кассе, – я бы взяла, но слишком низко приталено и цветочки идут чересчур наискосок.
– Да чего извиняться-то! – весело отвечала ей коробейница, сумки ее чуть-чуть похудели. – Заказ твой я поняла. Во вторник твоя смена? Во вторник я тебе и принесу.
– Была бы баба ранена! – прозвучало в углу закусочной, близком к окну.
Над столиком со стаканом в руке воздвигся свирепый мужчина, седой, лет шестидесяти пяти, не частый, но заметный посетитель закусочной, объявлявший себя то летчиком-испытателем, то следователем по особогосударственным значениям. Может где-то он и летал или что-то выпытывал, но здесь он чаще проявлял себя горлопаном и бузотером.
– Была бы баба ранена! – прозвучало вновь, но уже как бы усиленное рупором.
За столиком оратора сидели крепкие мужчины, с лицами и повадками ответственных работников, то ли бывших, то ли удержавшихся.
– Но шел мужик с бараниной. И дал понять ей вовремя! – продолжал громобой. И заключил: – Так давайте выпьем за мужика с бараниной!
Соседи громобоя сейчас же вскочили и с возгласами одобрения чествовали звоном стаканов мужика, спасшего от паровоза рассеянную бабу.
– Николай Федорович, – оживилась кассирша Люда, – а где вы берете баранину? В нашем районе что-то она пропала…
– Людмила Васильевна, Людмила Васильевна, – сокрушенно покачал головой Николай Федорович. – Это же Маяковский, облачный в штанах. Плохо вы изучали в школе пролетарскую литературу!
– Я ее и вовсе не изучала…
– Людмила Васильевна… – осторожно начал Прокопьев, – коробейница… Тоня… Она и есть… подруга… ну… Линикка с Телеграфа?
– Да что вы, Сергей Максимович, – удивилась кассирша. – Та совсем другая.
– Но она собиралась придти вечером…
– Я Сеньку пугала! Вовсе она не собиралась. Что вы никак не можете забыть сенечкину блажь. Забудьте…
«Как же, – грустно подумал Прокопьев, – забудьте…Дурь какая! Что нашло на меня?..»
– Была бы баба ранена! – вновь прогремело в закусочной.







