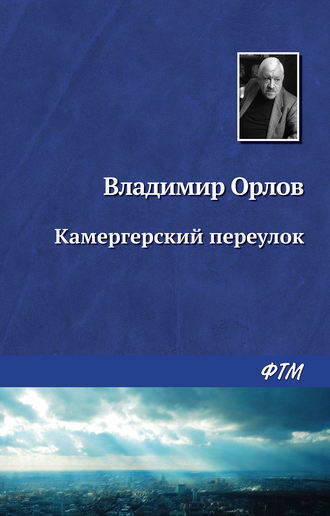
Владимир Орлов
Камергерский переулок
5
В те дни у сантехника РЭУ № 6, что в Брюсовом переулке, Соломатина Андрея Антоновича, случилось некое приобретение. Вызов был из восьмого дома по Средне-Кисловскому переулку. Дом стоял на задах Консерватории. Соломатин, несмотря на малый срок службы коммунальщиком, успел его узнать. Строили дом, по тем временам – уважительного вида, в пять этажей, для профессорского состава детища Рубинштейна. Капитальный ремонт затевали в нем в тридцатые годы, позже усовершенствования были в нем эпизодические, и понятно, что нутро дома, особенно ведавшее перетеканием вод и других жидкостей, было дряхлое и больное. Поначалу квартиры устроили в доме истинно профессорские, да еще и с залами для инструментов, но в пору исторических воронок происходили здесь уплотнения. Случившиеся позже разуплотнения прежнюю натуру дому, однако, не вернули. Хотя и теперь проживали в нем консерваторские служители и просто музыканты, близость к Кремлю приманивала к зданию и благополучных господ, ценящих исторически-оправданное месторасположение Кисловской слободы. Солений на царский стол они, правда, не заготовляли, но позволяли себе закусить виски и текилы кадушечным огурцом.
Вызов был простой. Третий этаж (еврованна, хозяин с фабриками, по слухам, и клюквенный король, родом с Вологодчины) протек на второй этаж и на первый. Основательно протек.
На вызов Соломатин отправился в паре с Павлом Степановичем Каморзиным. Для дяди Паши Каморзина Соломатин поначалу был вовсе и не напарник, а так, ученичок. В прежние маршеобразующие времена его бы произвели в сан Наставника, о чем в коридоре ЖЭКа раскатали бы красными буквами на ватманском листе. Нынче дядя Паша ни в каких ученичках не нуждался, рядом с ним должен был быть работник и более никто. Соломатину тогда казалось, что Каморзин относится к нему с ехидством и даже полупрезрением, в первые дни он окликал Андрея исключительно «стюдентом», позже, вызнав некоторые подробности соломатинского жизнедвижения (или – жизненедоумения), стал именовать его «доктором». И в этом «докторе» ехидств, похоже, рассыпалось и подпрыгивало куда больше, чем в «стюденте».
На вид Каморзин был совершенный злодей. Здоровенный, под метр девяносто дяденька сорока семи лет, ручищи свисают до колен, как у человекообразного с острова Борнео («Вам бы на виолончели играть!» – позволил себе как-то съязвить Соломатин. «В ручной мяч гонял…» – буркнул в ответ Каморзин). Шкаф, амбал, мордоворот, вурдалак. Волос имел короткий, но выглядел взлохмаченным, на манер лешего из Лосиного острова. Из-под косматых бровей, спадавших ниже ресниц, оба ока его будто прорывались на свет и буравили пространство и размещенных в нем людей. Хозяев квартир, к каким он приходил по водным и отопительным делам, громила-сантехник, мягко сказать, смущал, но чаще, особенно у тех, кто видел его впервые, вызывал страхи: этакий и без всяких разводных ключей раскурочит кого хочешь, надо бы против таких умельцев держать в доме автомат или балончик с газом, но приходилось стоять рядом с ним и его клешнями, как бы чего не спер. А уж какие взгляды, пусть и мгновенные, бросал он на шкафы, безделушки в сервантах, на стены! Сразу было ясно: все рассмотрел. Даже тайники за обоями или в полу учуял, коли такие имелись. Наводчик. Дня через три прибудут грабители, или сам явится с отмычкой и мешком для добыч.
А Соломатину сразу сообщили, что Павел Степанович в своем деле – волчище матерый, то есть, конечно, искусство судовождения никак нельзя было сравнивать с хлопотами жилищно-коммунального хозяйства, но бывают, наверное, не только морские волки и волчищи. Вот и в ЖЭКах положено им быть. При этом за двадцать с лишним лет трудов не случилось никаких порочащих Каморзина происшествий.
Соломатин, чье первое впечатление от Каморзина совпало с впечатлениями расхожими, скоро открыл, что дядя Паша – не злодей (скажем так – видимо, не злодей), но уж во всяком случае – чудак.
Однажды в минуты безделья в РЭУ Соломатин застал Каморзина за чтением «Избранного» Эдуарда Асадова (другие их сослуживцы стучали костяшками козлино-рыбной игры). Соломатин чуть было не удивился вслух и не выразил своего отношения к уровню виршей лирического резонера. Но промолчал, побоявшись оскорбить привязанности коммунального волчищи. Действительно, для него, Соломатина, хорош Роберт Музиль, почему же для Каморзина должен быть плох Асадов? А Каморзин тогда смутился, томик Асадова сунул под пачканую куртку. Но вскоре выяснилось (и не могло не выясниться), что для дяди Паши Каморзина самое святое – Сергей Александрович Есенин.
Каморзин собирал не только сочинения, но и всяческие воспоминания, заметочки даже и в пять строк о нем и местах, где Есенин бывал, где что-нибудь сотворил или натворил. И это «натворил» было есенинское, а, стало быть, для Павла Степановича – тоже святое. Во всяком случае – возвышенно-оправданное. С удовольствием, но и как бы усмиряя гордыню приобщенного (может даже незаслуженно) к щедростям кумира Павел Степанович поведал Соломатину (вместе они работали уже два месяца) о здешних, никитских, есенинских достопримечательностях. Вот здесь, метрах в ста от их домоуправления («слово-то куда лучше, чем РЭУ, или для вас – нет?») возле Консерватории Сергей Александрович торговал книгами. «Да здесь был магазин имажинистов. На стеночке доска об этом. А само-то здание по деньгам отдано каким-то парфюмерам, какой-то похабной греческой таверне с оскорбительными ценами, за взятки, конечно, выкурили оттуда „Оладьи“, те студентикам были по карману, и водку там можно было пригубить за уместные бумажки. Ну да ладно…» А если пойти Брюсовым переулком вверх, к Тверской, увидим дом, в коем зарезали Зинаиду Райх. «Как он издевался над этой Зинкой, – будто бы с умилением принимался вспоминать Каморзин, – по мордам бил…Но резать бы, конечно, не стал…» А не доходя до Райхиного с Мейерхольдом дома жил Василий Иванович Качалов, ну да, собака, лапа на прощанье, сами знаете… «Нет, нет, – заторопился Каморзин. – Я понимаю, о чем вы подумали… Конечно, Качалов поселился здесь в начале тридцатых, когда уж и Маяковского не было, а Райх зарезали в тридцать седьмом. Но все это не имеет значения. Для Сереги нет времени. Для него нет пустяшных земных пределов и ограничений в перекрестьях с чужими судьбами…» Каморзин оборвал свои слова, сигарету поджечь никак не мог, он опять смутился и теперь, похоже, всерьез. Смущение его, как понял позже Соломатин, было вызвано не произнесением пафосных слов насчет земных пределов и чужих судеб, а именно этим «Серегой». И будто бы неловкость возникла не от проявления фамильярности, а приоткрылся некий секрет, особенное расположение в мире Павла Степановича Каморзина и обожаемого им поэта, при котором Павлу Степановичу называть поэта Серегой было позволительно. Почувствовав это, Соломатин сразу же скорыми и частными вопросами отвлек Каморзина от углублений в таинственные острова его души. Павел Степанович успокоился и стал называть Соломатину иные никитские дома и квартиры, в каких мог гостевать Есенин или хотя бы останавливаться на ночлег. «И в нашем Брюсовом переулке… – осторожно начал Павел Степанович, – в том доме, где „Ремонт обуви“ и бар „У башмачника“ с плохим пивом, он проживал…» Покурили. «Бочку-то он именно здесь…» – глухо выговорил Каморзин, явно вопреки воле и намерениям. В глазах Каморзина возникло пылание, какое не могли скрыть кусты бровеносца, рот открылся сладко, давая созидателю звука от диафрагмы и до кончика языка вытолкнуть в мир знаменательные слова. Но губы дяди Паши сейчас же будто бы в испуге прижались друг к другу, а пылание в глазах угасло. «Не достоин я узнать сокровенное Павла Степановича, – сообразил Соломатин. – Не достоин…»
Прошел месяц, прежде чем бочка снова была упомянута в разговоре Каморзина с Соломатиным. Павел Степанович, видимо, все еще приглядывался к Соломатину. А впрочем начать свой рассказ он, возможно, не спешил не из-за каких-либо сомнений, а чтобы растянуть удовольствие.
На взгляд обывателя или просто здравомыслящего человека, посчитал Соломатин, история бочки могла быть признана знакомо-житейской. У иных она вызвала бы усмешку, хотя и с долей симпатии – экий ухарь! Другие отнесли бы ее к числу дурацких, а участников ее назвали бы личностями безответственными. Впрочем, чего с кем не бывает… В сознании же Павла Степановича Каморзина, в его рассуждениях о жизни история с бочкой утвердилась воздушно-мифологической, все в ней было огромным и всемирным, она возносилась в выси над Брюсовым переулком, над Москвой, над Рязанской губернией, над муравейно-людской мельтешней.
О бочке Павел Степанович (Соломатин впервые узнал о ней) то ли прочитал лет восемь назад в какой-то газете, то ли услышал о ней в культурной телепередаче. Сам Каморзин рассказал о ней так. Случилось это то ли в двадцать третьем году, то ли в двадцать четвертом. Воспоминатель, начинающий в ту пору литератор, юнец пришел за гонораром на Мясницкую улицу. А в очередь к кассиру за ним встал Сергей Александрович Есенин. Наш юнец так и обомлел. Ну да, конечно, вы сейчас усмехнетесь – юнец! А ваш Сергей Александрович – не юнец? Извините, извините! Если загибать пальцы, то несомненно – юнец! Но нет, он – по судьбе, по творениям – был уже Гёте! («И Гёте знает, – отметил Соломатин. – И что же он читал у Гёте?»). Так вот, продолжил Каморзин, червонцы они получили, кто сколько – не знаю, полагаю, что Есенин больше. Юнцу нашему следовало бежать куда-то по делам, а у Сергея Александровича время было. Он и предложил начинающему посидеть где-нибудь в трактире. Вы бы отказались от такого предложения? То-то и оно. Но нам такого предложения не последует. Сидели они хорошо. Объяснялись друг другу в любви и творческом уважении. К удовольствию Есенина собеседник его был не поэтом, а прозаиком и чтением стихов не утомлял. В ходе застолья Сергей Александрович вспомнил, что ему завтра ехать в Константиново. Тут небесные глаза его затуманились, а потом и повлажнели (Павел Степанович будто бы сидел тогда в трактире на Мясницкой за соседним столиком), матушку вспомнил Сергей Александрович, нищую улицу деревенскую, берег окский. «Надо сейчас же покупки делать! – кулаком по столу вышло постановление. – Самое ценное нужно везти! Как ты думаешь – что?» Юнец наш, прозаик начинающий, принялся бормотать что-то про кружева, монисты, серьги, отрез миткаля или ситца, а матери рекомендовал прикупить душегрейку на козьем меху. «Дурень! – будто бы вскричал Есенин. – Дурень городской! А потому и никогда не напишешь „Илиаду“!» (Соломатин позже не напоминал Каморзину об «Илиаде», и вышло бы бестактно, и само обращение Каморзина в нашем случае к «Илиаде» было для ума Соломатина явлением непостижимым). «Кружева, монисты, отрезы! – продолжал кричать Есенин. – Керосин, дурень! Керосин!»
И они отправились в москательную лавку. (О, запахи детства! О, волшебные ароматы москательного магазина на Первой Мещанской! Это уже восклицает автор). «Бочку. Бочку керосина! – заказал Есенин. – Лучшего. А бочку самую большую!» Расторопным хозяином, признавшим Есенина, лучшим был объявлен керосин Бакинского товарищества бр. Векуа. (Соломатин ничего не слышал о Бакинском керосиновом товариществе и братьях Векуа, но проверять сведения Каморзина не было у него нужды). Наняли двух извозчиков, ломового, для бочки, и, как бы теперь сказали, легкового, для сопровождающих бочку лиц. Следовали описания путешествия с Мяницкой в Брюсов переулок и описания Москвы нэповских лет, явно вызванные в Каморзине кадрами кинохроники, фильмом «Ехали в трамвае Ильф и Петров», а возможно и рисунками трех остроглазых весельчаков, в молодости – легко ироничных, позже натянувших на себя шапку Кукрыниксов. Трамваи, трамваи, гротесковые пересечения рельсовых путей, их немыслимые петли, и зажатые машинами, обреченные на вымирание лошади и извозчики. Так или иначе бочка с керосином была доставлена в Брюсов переулок. Извозчики отволокли ее за порог парадной двери, а тащить на пятый этаж отказались. Не подряжались. Не слаживались. Сергею Александровичу бы швырнуть им деньги или почитать стихи из кабацкого цикла. А он заупрямился, загоношился и учинил скандал. То есть скандал – в понимании извозчиков. Они сплюнули и удалились к своим колымагам. В разумении же прозаика начинающего, так и не сочинившего по прошествию лет «Илиаду», это был выплеск благородных чувств, рык или стон обиженного хамами гения. Юнец робко предложил мастеру оставить бочку здесь же, в чистых сенях подъезда, разве только придвинуть ее к стене да положить на нее бумажку: «Бочка такого-то. Просим уважения». Тем более, что завтра поутру ее потребовалось бы спускать с пятого этажа. «Ну уж конечно! – возмутился мастер. – Ну уж кукиш! Эти ваньки ее тут же и уворуют! Небось, сейчас сторожат за дверью с телегой!»
Естественно, юнцу начинающему и в голову не могла прийти мысль отказать во вспоможении мастеру. Он, если б смог, на руках отнес бы на пятый этаж и бочку, и самого Сергея Александровича. Но, увы, не мог. И начался подъем керосиновой бочки. А этажи в доходных домах – это вам не пролеты в спичечных коробках хрущевских расселений. На Монблан поднимались восходители! На Эверест! Да еще и по отвесному западному склону. «Мне бы тогда быть с ними! – чуть ли не застонал в отчаянии Каморзин. – Мне бы тогда…» Но что вызывать в себе тщетные сожаления?
Лестничные страдальцы наши с криками, с руганью, со стонами из-за придавленных пальцев, с короткими восторгами добрались до пятого этажа. То есть почти добрались. Последний привал перед последним маршем. Еще двенадцать ступеней восхождения. Уселись на камни отдышаться. Хорошо хоть фасадное окно, окнище, было растворено для продувания дома вечерним воздухом. То ли кручинушка овладела тогда Сергеем Александровичем, опустил он голову («Отчего же не буйную? – опять удивился Соломатин. – Буйную – тут положено!»), соломенные волосы его опали на щеки. То ли горевал он о своей судьбине, то ли складывал печальные строфы.
Тогда все и случилось. Прозаик начинающий чуть ли не придремал, а потому начальное движение поэта проглядел. Стадия поступка была срединная. Сергей Александрович, гений, выкрикнул: «А-а-а! Пошла бы она на…!», подскочил к бочке, поднял ее и вышвырнул в распах окна. Соломатин позже выслушал несколько версий истории бочки, и каждый раз Павлом Степановичем допускались свежие толкования случившегося восемьдесят лет назад. Лишь однажды Сергей Александрович вздымал бочку на грудь и грудью же, всем телом своим выталкивал бочку на уличные воздухи. Чаще же Сергей Александрович держал бочку над головой, на вытянутых руках, и швырял ее к небу, чтобы оттуда она низвергнулась на Землю. Деликатный вопрос Соломатина: а не подумал ли швырявший о том, что бочка могла обрушиться на каких-либо прохожих или, скажем, на легкомысленно бродивших собак, вызвал удивление Каморзина. Причем тут какие-то другие люди или тем более собаки? Действительно, согласился Соломатин, не причем. Гимнастические упражнения кумира с подъемом и метанием бочки Каморзин изымал из житейской низости и ставил ее в ряды надчеловеческие – мифологические, песенные, былинные и прочие. Причем все сравнения оказывались благосклонными именно к Сергею Александровичу. Степан Разин в набежавшую волну швырял персиянку, пусть и княжну, в коей, наверняка, было сорок килограммов. И вот об этом действии потомки вспоминают уже четвертое столетие. «Нашли с кем сравнивать! – проворчал Соломатин. – С Разиным, с этим кровопийцей…» (Соломатин считал Разина первейшим негодяем). «Я и не сравниваю!» – возмутился Каморзин. По мнению Каморзина, Есенин был истинным титаном. Но не Прометеем, упаси Боже, нет. Это Маяковский мог числить себя родственником Прометея и желал пылать в сто тысяч солнц, допылался. Сергей Александрович не был воспламенитилем или факельщиком, он скорее выступил в Брюсовом переулке как титан-огнеборец, теперь бы сказали – титан-эколог. Последнее соображение смутило самого Каморзина. Он тут же объявил: ну если не титаном, то несомненно исполином. (Соломатину довелось видеть фотографии Есенина, вынутого в «Англетере» из петли. Лежал – на чем-то – худенький опечаленный мальчик. Чуть ли не ребенок лежал… Какие уж тут Гераклы и Самсоны!). В представлениях же или в видениях Павла Степановича поэт с вознесенной над головой бочкой превращался именно в исполина, ростом с единственный (тогда) в столице небоскреб Нирензее, он возвышался над Москвой светочем и предупреждением (не только в этом «светоче и предупреждении», но и в других словах Каморзина кувыркались противоречия, однако они в сути отношений поклонника и поэта были естественны и ничего не меняли). Соломатин мог предположить, я, впрочем, повторюсь, что ему открыт лишь один эпизод из жизни Есенина, а таких эпизодов для Павла Степановича – тысячи, и каждый из них имеет суверенное каморзинское толкование.
Позже, если случались поводы, Каморзин снова вспоминал о бочке, но уже без пафоса, без пылания в очах, а именно как слесарь-сантехник. Поводы были самые простые – вызовы в дом с баром «У башмачника». Однажды Каморзин предложил Соломатину подняться к историческим ступенькам и фасадному окну, откуда и вылетела в пространство и в есениноведческое время, то есть в вечность, бочка Бакинского керосинового товарищества. Каморзин сидел на камнях лестницы, покуривал, и Соломатин видел, что наставник-напарник его волнуется. Причина волнения оказалась иной, нежели предполагал Соломатин. Выяснилось: Павел Степанович не был уверен в том, что Есенин проживал в облюбованном и узаконенным им, Каморзиным, здании, а не в соседнем, схожим со здешним размерами (ну лишь этажом ниже) и судьбой некогда процветающего доходного дома. Никаких документов Павел Степанович не видел. Все его установления опирались на свидетельства юнца начинающего, допущенного гением сопровождать бочку. Как-то сразу Каморзин уперся сознанием в дом номер два, строение один, с обувным ремонтом и полюбил его. Лишь через неделю сообразил, что и строение второе дома номер два имеет права на Сергея Александровича. Ущербная щепетильность грызла натуру Павла Степановича, но обговорить сомнения было не с кем. Не в Литературный же музей тащиться на посмешище! Теперь же собеседник образовался и был признан годным давать советы. Соломатин рекомендовал Каморзину отправиться в соседнее строение и там порассуждать. Каморзин, выяснилось, подобные путешествия проделывал и не раз. В пролете между четвертым и пятым этажами Соломатину ничего нового не открылось. Те же полустертые ступени, те же коммунальные запахи – сверху обжаренного, возможно, для борща лука, снизу – рыбных котлет, то же фасадное окно, иных, правда, линий, однако готовое дать дорогу не только бочке, но и автомобилю «Газель». «Как же быть? Как же быть?» – страдальчески спрашивал Каморзин, будто отчаялся в тупике критского лабиринта, в руке его гас последний факел. «Проще простого! – без раздумий ответил Соломатин. – Куда привели флюиды вашей душевной близости с поэтом, там, стало быть, он и жил, там и теперь, наверняка, обитает его фантом, туда он несомненно и вез с Мясницкой бочку».
– Я так и предполагал! – выдохнул Каморзин.
– Павел Степанович, а с бочкой-то что вышло? – поинтересовался Соломатин, они уже тротуаром Брюсова переулка протискивались мимо нагло уставленных всюду иномарок здешних банкиров, в лучшем случае – пиликальщиков и трубачей, с острым, но подавленным желанием оцарапать полированные бока или сбить зеркальце заднего вида.
– Доктор, это и меня волнует! По словам того… начинающего прозаика… он, когда спустился в переулок, никакой бочки не увидел. И мертвые тела не лежали, и бранных слов никто не произносил. Переулок стоял пустой. А на булыжнике мостовой блестело и воняло лишь маслянистое пятно. То есть керосиновое пятно. Вот здесь! – указание Каморзина пальцем было уверенное, но Павел Степанович, видно, вспомнил о претензиях соседнего строения и добавил деликатно: – Или вон там… Ну, были еще и конские изделия…
– То есть бочку сперли?
– Ну, может и не сперли… А просто унесли или убрали с дороги… Дворники, да еще и с бляхами на груди, были тогда опорные люди в городе…
Павел Степанович не мог не признаться, что он («так, на всякий случай, а не из-за какой корысти») повел себя и искателем, пытался обнаружить в кварталах Кисловской слободы и Успенского вражека следы пребывания Сергея Александровича или даже реликвии его. («А то стал бы я околачиваться в нашей конторе с моими-то руками…» – было выговорено и тут же замком защелкнуто). Помолчав, Каморзин рассказал о том, что однажды вышел на носившего некогда дворницкую бляху и услышал от него: да, ходили здесь разговоры о керосиновой бочке некоего хулигана и охальника, чечетавшего, вроде бы, американские танцы в белом исподнем, и будто бы эту бочку не принимали в утиль…







