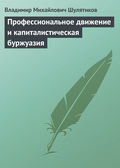Владимир Михайлович Шулятиков
Оправдание капитализма в западноевропейской философии (от Декарта до Маха)
V
Лейбниц
«Читая все эти утверждения, можно подумать, что мы имеем перед собой не протестантского философа конца XVI и начала XVII вв., а кого-либо из прежних католических писателей». Речь идет о Лейбнице, мечтавшем о том, «чтобы весь человеческий род составил как бы одну общину под управлением Бога», чтобы все государства слились «в одну организацию, которую всего скорее следует назвать церковью». Историк философии права, слова которого мы цитируем[30], положительно изумлен подобными анахронистическими воззрениями. Но он все-таки пытается дать некоторое объяснение и связывает их с неразвитостью политического строя тогдашней Германии. Там «мысль была обречена или на абстрактные построения, лишенные практической силы, или на воспроизведение идеалов, уже отживших свой век». Бесспорно, в описываемую эпоху Германия по сравнению с Англией, Францией или Голландией, являлась страной отсталой в экономическом, а, следовательно, и политическом отношениях. Но это обстоятельство еще не позволят характеризовать взгляды Лейбница, как идеологию общества, стоявшего на грани средневековья. Не о средних, феодальных веках говорили его взгляды. Идея божества, которую он выдвигал, была идеей, принадлежавшей как раз одной из новых групп, боровшихся с умиравшим строем. Это опять божественная субстанция, опять представление о «верховной воле» капиталистической буржуазии… Впрочем, Бог Лейбница ввел в заблуждение не одного только московского профессора. По очень распространенному среди историков философии мнению, божество не играет никакой существенной роли в лейбницевой системе и автор «Монадологии» и «Начала природы и благодати» мог бы свободно обойтись без этого добавочного понятия, оставленного в наследие от средних веков.
Напротив, у Лейбница Бог такой же необходимый центр мировой жизни, как и у других «великих метафизиков». Ошибочная оценка его роли объясняется, несомненно, той далью расстояния, которая разделяет его и мир. Перед нами «безличный руководитель», притом настолько подчинивший себе «материю» и «промежуточные организаторские звенья», что ни о каком, не только прямом, но и опосредованном воздействии названных элементов друг на друга не может быть и речи. В данном отношении Лейбниц идет дальше окказионалистов. Те учили, что при наличности известного хотения в нашей душе Бог производит каждый раз соответствующее движение в теле и, наоборот, при наличности известного телесного движения вызывает соответствующее представление в душе. По мнению Лейбница, подобная постановка вопроса предполагает все-таки большую близость организуемых начал к божественной субстанции, противоречит понятию о совершенстве Бога. Он сравнивает душу и тело с двумя часами, которые одновременно заведены. Движение стрелок на одних часах в каждый данный момент строго соответствует движению стрелок соседних часов, прием ни те, ни другие не регулируют друг друга, и вмешательства со стороны их владельца не требуется. Аналогичным образом Бог, при акте творения, определяет раз навсегда душу и тело к строгой согласованности их параллельных действий. Такова предустановленная гармония между означенными началами.
Бог Лейбница – собственник образцово поставленного предприятия и сам превосходный организатор. «При творении мира он избрал план возможно наилучший, соединяющий в себе величайшее разнообразие вместе с величайшим порядком. Наиболее экономическим образом распорядился он местом, пространством, временем: при помощи наипростейших средств он произвел наибольшие действия»[31].
Если философия Спинозы есть апофеоз поглощения производителей мануфактурным капиталом, то философия Лейбница – апофеоз организационного строительства мануфактуристов. Лейбницев мир – это грандиозная мастерская с сложнейшей иерархией рабочих подчиненных организаторов. Каждый из них на своем месте, действия каждого строго предопределены, труд каждого «утилизируется» с наибольшей выгодой. Согласованность исполнительских процессов различных групп наблюдается полнейшая. Каждая группа ведает лишь область своих детальных функций, которые и выполняет с точностью, обуславливаемой сложностью общего хода работ.
Организуемые «низы» в подобном предприятии не имеют ни малейшей тени самостоятельности: «материи» отказывается в ее прежней субстанциональности. Организуемые низы отданы под контроль организаторских низов: «материя», потерявшая свою прежнюю субстанциональность, может мыслиться лишь в известной связи с организаторским началом, лишь как опекаемая непрестанно последним, причем это начало – низшего ранга. Реформируется понятие о духе. Сущность духа в мышлении, учил Декарт. Лейбниц мышление считает достоянием только высших организаторских звеньев. Низы последних ведь так сблизились с низами организуемой массой! Души могут существовать, пребывая в бессознательном состоянии. Так возникает своеобразное понятие о простейшем организуемом звене, о низшей нематериальной субстанции, монаде[32] тела. Историки философии сообщают нам, что, создавая подобное понятие, Лейбниц окончательно устранил картезианский дуализм духа и тела, который даже в спинозовской системе оставил некоторый след – в виде противопоставлении мышления и протяжения.
В мире множество монад. Соединение их образует организмы. И в организмах монады располагаются в иерархическом порядке. Одна монада, монада души, оказалась доминирующей; другие окружают ее в виде тела: это монады подчиненные. Но качественной разницы между ними нет. Как и Спиноза, Лейбниц отрицает наличность качественных различий между организуемой массой и промежуточными организаторскими звеньями перед лицом верховного «руководителя».
Монады отличаются друг от друга только степенью своего совершенства, самодеятельности, отчетливости своих представлений. Монады тела – монады, как бы пребывающие в состоянии дремоты или полусна. Монады души энергичнее их, лучше организованы, яснее все себе представляют.
Как и организмы, весь мир не что иное, как иерархия монад, монад, бесконечно разнообразных в своем внутреннем строении. Нет двух совершенно одинаковых монад. Образцовое мануфактурное предприятие зиждется на образцово разнообразном составе исполнительного персонала. Детализация профессии, повторяем, – вернейший козырь в руках мануфактуристов, завоевывающих себе территорию национального хозяйства. В Германии мануфактуре приходилось иметь дело с очень сильным противником – старым ремесленным строем: поэтому вопросы об организационном строительстве стояли перед идеологами нарождавшейся капиталистической буржуазии на первом плане. Потому Лейбниц подробно разрабатывал его. Потому, между прочим, он доказывал, что многоразличие явлений есть непременное условие совершенства того целого, в рамках которого она имеет место.
Другой необходимый признак образцового предприятия – строжайшая согласованность трудовых процессов, выполняемых отдельными исполнительскими группами.
Об этой именно согласованности говорит учение о предустановленной гармонии. В таком же соотношении, как душа и тело, находятся между собою все монады. Деятельность каждой из них точно отвечает деятельности всех других. При этом каждая из них представляет собою настоящий замкнутый мир, куда нет доступа никаким посторонним элементам. «Монады вовсе не имеют окон, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти». Здесь, несомненно, подчеркивается изолированная роль отдельных категорий рабочих и отдельных категорий исполнителей-организаторов по отношению друг к другу. Детальные исполнители ограничены кругозором своих трудовых операций и производят последние, не считаясь с тем, что делают другие группы в данный момент. Знакомство с общим ходом работ в предприятии от них не требуется, и они им не обладают. Непосредственного взаимодействия на технической почве между отдельными группами нет. Отдельные группы напоминают части сложной машины, имеющая каждая особую конструкцию, но действующая в строгой согласованности друг с другом.
VI
Беркли[33]
«Прежде думали, что цвет, фигура, движение и прочие ощущаемые качества или акциденции действительно существуют вне духа; и на этом основании казалось необходимым предполагать некоторый немыслящий субстрат или субстанцию, в котором они существуют, так как они не могут быть мыслимы существующими сами по себе. Впоследствии, убедившись с течением времени, что цвета, звуки, и прочие ощущаемые вторичные качества не существуют вне духа, лишили субстрат или материальную субстанцию этих качеств, оставив при нем лишь первичные качества – фигуру, движение и т. п., которые еще продолжали мыслить существующими вне духа и потому нуждающимися в поддержке материального носителя»[34].
Теперь с этим «материальным носителем» сводятся последние счеты. Его лишают последнего достояния – «первичных качеств» и обращают в ничто. Правда «обращением» его в ничто были заняты и Спиноза и Лейбниц. Но пантеизм Спинозы, выдвигая антитезу протяжения и мышления, лишь уравнивал в правах дух и материю перед лицом верховной субстанции. Монадология Лейбница, со своей стороны, несмотря на свой спиритуализм, все-таки сделала некоторую уступку изгнанному «материальному носителю»: низшая из лейбницевых монад – все-таки содержит в себе отзвуки своего материального происхождения. «Являющийся телесный мир имеет в монадах свой твердый фундамент». Таким образом, Лейбниц хотя и идеалист, но не разорвал совершенно связь с реализмом. Крайним последствием чистого идеализма было бы признать телесные вещи чистыми феноменами, чисто субъективными представлениями, без всякой реальности, которая лежала бы в их основании и совершенно отвергнуть объективность реального, чувственного мира (Швеглер[35]). Подобную задачу выполнила философская система, созданная в обстановке, которая, по распространенному воззрению, отнюдь не могла способствовать никаким полетам мыли в область «запредельного». Англичане – народ практический, их мышление «трезвое»; материализм и эмпиризм – их «национальная философия – и вдруг… решительное слово метафизики было произнесено в их среде и притом философом, который как раз исходил из предпосылок, заимствованных у корифеев «национальной» философской литературы. В обзорах истории философии этому обстоятельству придается особое значение. Им пользуются для доказательства тезиса о банкротстве, необходимом постигающем «опытное» мировоззрение, когда последнее разовьет свои выводы до логического конца.
На самом деле, появление системы клойнского епископа Джорджа Беркли не должно нас удивлять. Разница между «опытной» и спекулятивной философией для буржуазии не так велика, как это с первого взгляда может показаться. Мы отметили уже в общих чертах ту экономическую атмосферу, в которой капиталистическая буржуазия проникается симпатиями к «положительным» воззрениям. Но, сегодня эмпирически настроенная, завтра она заявляет себя на стороне идеализма. Характер ее идеологии определяется характером борьбы за существование в данный момент. Периоду Sturm und Drang'а английской капиталистической буржуазии отвечал материализм Гоббса. Почва для мануфактуры расчищена, для мануфактуристов наступают более спокойные времена: материализм Гоббса сменяется половинчатой системой Локка[36]. Дальнейшее укрепление позиции мануфактуры обуславливает возможность антиматериалистических выступлений.
При этом необходимо принять во внимание, что английская мануфактура в начале XVIII ст., как известно, опередила в техническом отношении континентальные капиталистические предприятия. Ее большей организованности, более резко подчеркнутым взаимоотношениям групп и классов, сосуществующих под ее кровлей, должна, естественно, отвечать и большая решительность в формулировке идеологической системы, которая «оправдывала» бы ее.
Из рамок действительности, данной в нашем сознании, мы выступать не можем. Даже то, что до сих пор считалось наиболее объективным, принадлежит е объекты, а субъекту.
Еще картезианство выяснило субъективную ценность чувственных качеств (цвета, вкуса и т. д.). Беркли исходит из этого положения, как уже неоспоримо утвержденного, и главное внимание его сосредоточено на анализе качеств «первичных».
Ошибочно мнение, будто наш ум наделен способностью создавать отвлеченные идеи о вещах. В действительности качеств и состояний вещи, взятых отдельно друг от друга не существует. И только в том случае, если опыт говорит нам, что известная часть вещи может быть отделена от целого, мы можем расчленить соответствующую сложную идею (представить, например, руку отдельно от туловища, глаз или нос отдельно от головы). При отсутствии этого расчленения идеи произойти не может. Нельзя говорить, напр., о человеке вообще. Замечая известные черты сходства телосложения и качеств Петра, Якова и Ивана, наш ум старается отвлечь от частных идей о каждом из названных лиц то, что составляет их особенности, что обуславливает их индивидуальное существование, и подбирает лишь общие признаки: получается идея человека, человеческой природы, в которой содержится цвет, но цвет вообще, рост, но рост вообще. Но это был бы – фокус нашего ума. Идея человека может быть только идея человека белокожего, чернокожего или краснокожего, человека прямого ил сгорбленного, человека высокого, среднего или низкого роста. Возьмем некоторые другие, носящие еще более отвлеченны характер, идеи.
Число – совокупность единиц. Отвлеченной единицы не существует.
Арифметические теории, если их мыслить вне связи с названиями и фигурами. С частными считаемыми вещами, лишены всякого предметного содержания. Арифметика всецело подчинена практике. И, будучи оторвана от практики, она «становится узкой и пустой». Цифры – лишь знаки, созданные для облегчения памяти и счета, а отнюдь не вещи. Благодаря связи, установленной между этими знаками и определенным количеством вещей, мы получили возможность устанавливать, сколько в каждом случае пропорциональность последних. Цифры дают нам указание относительно того, как правильно распоряжаться вещами. Одни и те же вещи могут обозначаться различными числами, в зависимости от отношений, в которых мы рассматриваем их. Мы имеем обозначения 1, 3, 36 для одного и того же протяжения; разница получается от того, сравниваем ли мы это протяжение с ярдом, футом или дюймом. «Число так очевидно относительно и зависимо от человеческого познания, что странно было бы подумать, что кто-нибудь мог приписать ему абсолютное существование вне духа». «Мы говорим: одна книга, одна страница, одна строчка и т. п., все они равно единичны, хотя одна из них заключает в себе несколько других. Во всех случаях ясно, что единица означает особую комбинацию идей, произвольно составляемую духом».
Равным образом, не существует ни абсолютного движения, ни абсолютного пространства. Чтобы представить движение, требуется представить minimum два тела, относительное положение которых изменяется. Если бы существовало только одно тело, то ни о каком движении мы не могли бы говорить. Человек, находящийся на борту корабля, одновременно движется и не движется: по отношению к бортам корабля он пребывает в состоянии покоя; по отношению к земле называть его пребывающим в состоянии покоя нельзя. По отношению к востоку он совершает движение одного порядка, по отношению к западу – другого порядка. Взятое вне всякого внешнего отношения движение немыслимо.
Оно может определяться лишь как одна из составных частей того или иного комплекса наших конкретных восприятий. Такую же роль играет пространство. Нельзя составить себе идеи чистого пространства, отрешенного от какого-либо тела. Если, вызывая движение в той или другой части нашего тела, мы видим, что данное движение совершается без сопротивления, мы утверждаем: здесь пространство; встреча препятствия, мы заключаем о наличности тел. Чем оказываемое сопротивление слабее, тем более чистым представляется нам пространство. Таким образом, говоря о чистом или пустом пространстве, мы не обозначаем идеи, «отличной от тела или движения, или мыслимой без них, хотя, конечно, мы склонны думать, что каждое имя существительное выражает определенную идею, которую можно отделить от всех прочих». Если бы весь мир, кроме моего тела, уничтожился, я бы сказал, что чистое пространство осталось: я мог бы утверждать, что части моего тела имеют возможность двигаться по всем направлениям, не встречая никаких препятствий; но если бы со всем миром уничтожилось и мое тело, то не было бы движения, не было бы и пространства.
Первичные качества наблюдаются в многообразных сочетаниях с качествами вторичными. Эти сочетания и называются предметами. Так, даны вместе известный вкус, цвет, запах, известная фигура и консистенция: мы имеем яблоко. Другие сочетания качеств составляют дерево, камень, книгу и т. д. Но мы знаем, что вторичные качества вне воспринимающего субъекта не существуют. Несомненно, и первичные качества мы должны приписать тому же субъекту. – Иначе цельного предмета мы никак не получи: все части должны, так сказать, находится в одном месте. «Различные ощущения или идеи, запечатленные в чувственности, как бы смешаны или соединены они ни были между собой (т. е. какие бы предметы они ни образовывали) не могут иначе существовать как в духе, который их воспринимает». Нет ни малейших оснований заключать о безусловном существовании немыслящих вещей без какого бы то ни было отношения к их воспринимаемости. Быть для веши – это быть воспринимаемой: esse – это percipi.
Но, – может быть сделано возражение, – заключать подобным образом значит заключать, что мир каждую минуту уничтожается и что он – пустая видимость. Если «я», воспринимающий субъект, перестал в данный момент, по тем или иным причинам, воспринимать вещи, последние, следовательно, перестают существовать? Вовсе нет. Они перестают существовать лишь во мне, конечном духе. Но я – не единственная имеющаяся в мире духовная субстанция. «Так, когда я закрываю глаза, то вещи, которые я видел, могут продолжать существовать, но только в другом духе».
Высший дух, Бог, содержит в себе прообразы вещей. Это он вызывает в нас идеи.
Все наши идеи, ощущения, понятия, вещи, нам воспринимаемые – не активны. Они «косные, мимолетные, преходящие состояния». Идея не может воздействовать ни другую идею, изменять последнюю, явиться причиною чего-нибудь. С природой нашего духа, деятельной, неделимой, неуничтожаемой субстанции, ничего общего они не имеют. Дух не творит их изнутри себя. Они привносятся в него волею всемогущего Бога.
Такова иерархия основных понятий системы Беркли. Социально-экономическое истолкование ее сводится к следующему.
При изложении картезианской доктрины мы уже говорили, какое классовое содержание имеет формула: вне субъекта нет объектов. Теперь зависимость рабочих от капиталиста-организатора существует лишь как воспринимаема; если бы существовали вещи вне субъекта, это значило бы, что «Бог, без всякого основания, создал бесчисленное множество вещей, бесполезных и не служащих никакой цели». Рабочие руки вне мануфактурного предприятия – масса, не могущая ничего производить, никакими средствами к существованию не располагающая.
Субъекты принадлежит все в вещах, даже то, что до тех пор считалось наиболее объективным. Другими словами, руководитель предприятия определяет теперь решительно все детали труда рабочего, не говоря уж о том, что спрос на ту или иную квалификацию всецело относится к области его организаторских функций.
Субъект воспринимает Ивана, Петра, Якова только как известные комплексы: рабочий персонал каждого данного предприятия в каждый данный момент представляет из себя величину, отличную от рабочего персонала, имеющегося в каждый другой момент. «Притяжение и отталкивание рабочих должно производиться без всяких препятствий»: в воспринимаемых комплексах никаких решительно абсолютных элементов нет. Все – относительно.