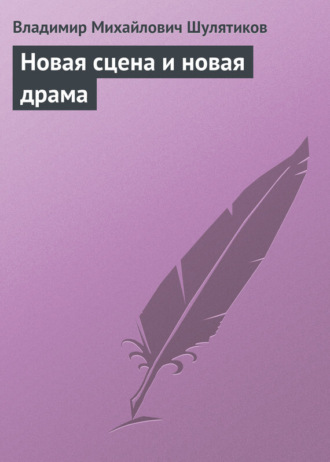
Владимир Михайлович Шулятиков
Новая сцена и новая драма
При состоянии абулии, далее, больные усиленно подчеркивают чувство угнетающего их одиночества. Потерявшие живую связь с окружающей их средой, загнанные, так сказать, в глубь «внутреннего мира» (употребляем традиционный термин), они воображают себя одинокими «я», одинокими атомами, противопоставленными всему миру. Пафос одиночества, который столь часто овладевает андреевскими героями, – явление того же порядка. «Пламенная тоска беспредельного одиночества», «безысходное одиночество», «великое и грозное одиночество», «бездонная пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким», «он был одинок в пустоте вселенной», «он был смертельно одинок», «вечно одинокая человеческая жизнь» – все это выражения, передающие гладким литературным языком характерные для абуликов признания.
Когда абулия осложняется тем, что французские психиатры называют douleur morale, «душевным страданием», больные, как известно, испытывают настроение тревоги, страха ко всему, нередко глубокого ужаса. Что Л. Андреев специалист по части изображения подобных чувств, – факт, не требующий, кажется, доказательств, и мы приводить их не будем. Наконец, поразительная инертность, отличающая андреевских героев, медлительность их движений, зачастую отсутствие последних, способность сохранять одни и те же позы, целыми часами и днями пребывать в состоянии какого-то оцепенения, погружаться в тягучие, бесконечные, однообразные думы – все это наблюдается и у наших больных. Это – яркие внешние симптомы их недуга.
Итак, патологическая подоплека андреевского художества, по-видимому, налицо. По-видимому, мы должны то, чем особенно восторгаются поклонники «новой» литературы, представленной произведениями Л. Андреева, признать не имеющим никакого отношения к области настоящего художественного творчества. По-видимому, модернистская драма, как ее характеризуют «Жизнь Человека» и «Царь Голод», литературно-критическому рассмотрению отнюдь не подлежит.
«Жизнь Человека» и «Царь Голод», действительно, являются, прежде всего, нагромождением «туманов» в различных видах.
Зрители, присутствующие на представлении «Жизнь Человека», должны, по замыслу драматурга, наблюдать действие, совершающееся где-то «вдали» (об этом предупреждают их слова пролога: «как отдаленное и призрачное эхо пройдет перед вами Жизнь Человека»). Таков основной фон драмы. А из ее отдельных подробностей укажем на сенсационную фигуру Некто в сером. Дается образ «рока», судьбы и, чтобы нарисовать его, Л. Андреев пользуется серой краской. Выбор краски знаменателен: она – из числа средств, позволяющих воспроизводить иллюзию «тумана». То огромное, бесформенное, страшное тело, которое видит герой рассказа «В подвале» – именно серого цвета. «Ему тридцать четыре года, – повествует Л. Андреев о другом своем герое – а в памяти от этих лет нет ничего, так серенький туман какой-то, да та особенная жуть, которая охватывает человека в тумане, когда перед самыми глазами стоит сырая, непроницаемая стена». Описание помещения, где впервые драматург-модернист знакомит зрителей с олицетворенной судьбой, ясно показывает, какое значение имеет для Л. Андреева серый тон. Серый ровный свет, наполняющий означенное помещение – это именно «серенький туман», «серая стена», за которыми предметы стушевываются, исчезают, становятся невидимыми.
Или «туманные» образы и аксессуары «Царя Голода». Их такое обилие. Помимо отмеченного уже примера рабочей толпы, укажем хотя бы на следующие. Действие пролога разыгрывается под пологом ночи; «черная, нависающая тяжелая тьма» неба, «немного непонятные силуэты церковных кровель, каких-то труб, похожих на неподвижные человеческие фигуры, которые к чему-то прислушиваются». Один из троих собеседников – Смерть – окутана черным, полупрозрачным покрывалом», сквозь которое «чувствуется и даже как будто видится скелет». Ночными тенями завуалирована сцена также во второй и четвертой картинах; в эпилоге ночные тени заменяются сумерками вечера. Явление Смерти в первой картине описывается так: «среди молчания, в жуткой тишине, трижды раздается хриплый звук рога… Тухнут, точно залитые мраком, дальние горны, и позади рабочих, в углу, встает что-то огромное, черное, бесформенное… Рабочие робко жмутся друг к другу, освобождая угол, в котором черным и бесформенным пятном возвышается смерть». Или такой пример изображения «дали»; декорация квартиры, где происходит бал, – перед зрителями «подобие черной, плоской уходящей в высь стены». наверху ее «видимые только на две трети несколько очень больших окон с зеркальными стеклами». Окна ярко освещены… и, тем не менее, зрители лишены возможности наблюдать реалистически представленную картину бала: драматург опять-таки прибегает к помощи «туманного» средства: «сквозь полупрозрачные гардины и сетку тропических растений видно неопределенное движение»; и лишь изредка, на фоне этого «неопределенного движения», показывается нечто более определенное: «мелькает на мгновение черный костюм мужчины, белое платье и белые голые плечи женщины».
Взятые в отдельности подобные образы и картины наводить на размышления о патологических мотивах творчества модернистского драматурга, пожалуй, еще не могут. Но, если рассматривать их в совокупности и пользуясь комментарием, который дают андреевские рассказы, мы не можем не поставить вопроса об этих мотивах. Представители модного направления в литературной критике должны вопрос решить быстро и безапелляционно. Но для нас их решение, хотя бы обоснованное более обильным и детальным материалом, явится слишком простым и сущности дела не разъясняющим. Допустим даже такой случай: пусть им удастся доказать, что произведения Л. Андреева произведения человека, страдающего той или другой формой психического расстройства. Даже и тогда их диагноз не был бы нами признан таким авторитетным словом науки, которым до конца исчерпываются задачи литературного критика.
Констатирование наличности патологической подоплеки в творчестве того или иного писателя может, во всяком случае, считаться лишь частью, притом предварительной, работы, которая лежит на критике. Современные психиатры начинают писать исследования на тему: «causes socials de la folie»: факт, указывающий на то, что психиатрия теряет престиж «самодовлеющей» области знания, что необходимейшую предпосылку психиатрического анализа начинают видеть в данных, не составляющих специфического, «имманентного» содержания науки о психических заболеваниях. Последняя приобщается к разряду наук, опирающихся на социологический фундамент. Правда, социологические объяснения современных психиатров особенной глубиной не отличаются: даются лишь указания самого общего характера, причем в качестве верховного понятия выдвигается понятие об абстрактном «обществе».[11] Но таковы вообще «социологические» выступления буржуазных представителей различных научных дисциплин. И, в данном случае, нас не интересуют самые результаты экскурсий психиатров в область общественных знаний: нам важно отметить лишь обнаружившуюся в психиатрии новую тенденцию, важно потому, что она как раз лишает модную критическую школу возможности импонировать своим мнимым ореолом высшего научного откровения. Ее представители, подбирая патологический материал, делают из него first principle, первооснову оценки тех или иных литературных феноменов, т. е. придают психо– и нервопатологическим данным то значение, в котором последним отказывает новейшее развитие соответствующих наук.







