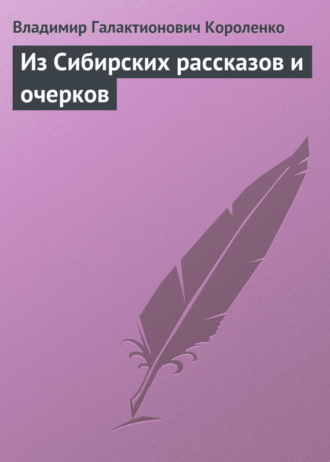
Владимир Короленко
Из Сибирских рассказов и очерков
Омоллон
От Титаринской станции нам пришлось ехать на лодке.
Ямщик, которому довелось в очередь везти нас, оказался бедняком, у которого было только две лошади, а нас было трое. Он предложил нам ехать в лодке на гребях. Мы согласились, не подумав о том, что значит идти на гребях верст тридцать вверх по Лене.
Только мы успели оттолкнуться от берега, на одну из лодок, стоявших рядом на отмели, вбежала девушка и передала старику узелок.
– Что это?
– Так, ничего, посылка! – слукавил старик; оказалось, что это был чайник и хлеб.
Нам предстояло варить чай на острову. Выезжали мы со станка утром, а на другой могли попасть не ранее как к ночи. Гребцы – старик и молодой парень, привычными руками налегали на весла. Волны бурлили по бокам лодки, брызги и пена уносились назад, но лодка подавалась вперед тяжело. Переехав через так называемую курью (залив, где удобно ловить рыбу), мы пристали к песчаной отмели, и гребцы, выйдя на берег, потянули лодку на бечевой, лямками. Потом, обогнув отмель, они опять сели и направили лодку к острову. «На этом острову будем пить чай», – заявил нам старик. Только тогда мы поняли свое положение.
До острова, казалось, рукой подать, но плыть пришлось около часу. Между тем вверху на реке появился какой-то белесоватый столб, постепенно расширявшийся. Одну за другой охватывал он береговые скалы. Вот около нас закружились легкие, мелкие снежинки, заволакивая божий мир непроницаемой, холодной, белесоватой пеленой. Снежинки эти, кружась, падали на потемневшую реку и тотчас таяли в ней, но на смену валились новые и новые. Вот еще маячат причудливые очертания высоких камней, темнеет кое-где тайга на крутых склонах, но все это постепенно тонет в снеговом облаке, все более и более окутывающем землю. Вот еще выделились каким-то призраком очертания плывущей вниз, откуда-нибудь с приисковой Мачи, большой якутской лодки с парусом. Выделились на минуту и потонули в снежном хаосе.
Ничего, кроме воды под нашей лодкой и снега, – вверху, впереди, кругом. Гребцы вытирают по временам свои лица, по которым стекают струйки горячего пота и талого снега. Но вот и остров.
Через минуту на берегу затрещал костер, на согнутых талинах повисли наши чайники. Гребцы сели к огню.
– Эх, сторона наша, – говорит старик, – гиблое место. Отдал нас царь под якутов на веки вечные. Горе наше великое.
– Как так? Кто же вас под якутов отдавал? Вы люди вольные!
– Нет, отданы мы под них. Да как же, ты посмотри: чьи луга, чьи хлеба, речки чьи самолучшие – все ихние. А мы на камнях сидим, пестрые столбы караулим. С какой радости? Нет, брат: царь сам своих людей им отдал, потому что осердился…
– За что?
– Да ты эту историю-то не слыхал, видно. Погоди, я расскажу тебе.
– Раньше вся эта сторона якутская была. Дыкан был у них царь. Росту ба-альшого, между плечей печатная сажень, а с лица нашему царю как есть родной брат. Жил этот Дыкан – где ныне якутской город. Вот раз пришли к нему трое русских и стали жить в работниках. Живут, а сами все смотрят и на бересте пишут: планты, значит. Вот раз ушли они в тайгу и две недели не приходили. Потом вернулись. Дыкан спрашивает: где, мол, были? А они говорят: пошли в тайгу и заблудились. Жена говорит Дыкану: что это русские все пишут? А он говорит: пущай. А русские-то, значит, к своим на низ ходили, планты снесли и велели башни строить. Потом вернулись. Малое время спустя просят у Дыкана: дай нам земли на одну воловью шкуру. Дыкан посмеялся: что, мол, они будут делать на эдаком месте? Ну и дал.
После того они опять скрылись и дня через три приплыли вместе со своими, порезали шкуру в тонкие ремешки и обвели кругом, где ныне город, да за ночь башни из срубов сложили.
Дыкан видит: обманули его. Давай воевать. А русские навешали на стены ситца всякие, сукна, красные товары. Якуты бросились хватать, а русские их из пушек – перебили страсть!.. А Дыкан долго не давался, однако и его взяли. Взяли его и повесили на виселице, на холмике – по сей день холмик тот есть. Висит он день – жив. Другой висит – жив. Третий висит – тоже жив. Что тут делать? Вот казак один приставил лестницу, влез туда к нему и ударил его… по лицу, сейчас он и умер. Сняли его и послали в Петербург к нашему царю. Посмотрел царь и говорит: как же вы смели убить его? Почему этакого царя мне живьем не доставили? И осердился.
А между прочим, приехал в С.-Петербург Дыканов сын и явился к царю. Явился к царю да и говорит: как теперь ты, белый царь, нами владеешь, то пошли мне русских людей станки держать, потому моим якутам никак невозможно. Приедет начальник какой, говорит им что-нибудь по-русски, а они не понимают. Возьмут и разбегутся, а твои начальники сердятся. Царь и говорит: бери.
И стали тут, братец мой, русский народ в якутскую неволю гнать. Кого в зачет некрутчины, кого помещики ссылали за провинности, а которые сами от тесноты на новое место шли; начальники много дураков сманили: там, говорят, гор золотых много…
– Почему же ты говоришь про якутскую неволю?
– Как же не неволя, подумай: чьи пашни, чьи луга самолучшие, чьи выгоны? Вся под якутами земля. Из милости скот вместе с якутским ходит… Сено по двадцати рублей иную пору воз покупаем. Это ли не горе? А уйти – куда же уйдешь? Гоньбой только и кормимся, да и то платой ноне беда стеснили. Видят нужду – тут и плату сбавляют. Это ли не неволя? Э-эх!..
Старик закашлялся.
Обрывок
Этюд
I
В небольшом кружке, собравшемся вечером за чайным столом, речь шла о предчувствиях. Между нами был молодой еще человек, нервный и впечатлительный, которого, по-видимому, очень интересовали высказываемые по этому вопросу мнения. Он молчал, внимательно прислушивался и быстро курил папиросу за папиросой.
– Бьюсь об заклад, – сказала хозяйка, – что NN мог бы нам порассказать кое-что сверхъестественное из собственной практики… Вы такой нервный, – добавила она, когда молодой человек вопросительно поглядел на нее…
Он отряхнул пепел со своей папироски и задумчиво ответил:
– Нет. Правда, со мной был довольно странный случай, но я сам объясняю его вовсе не предчувствием. Просто тонкая и почти бессознательная индукция…
– Ну, бог с ними, с объяснениями, – живо перебила хозяйка, – лучше расскажите самый случай.
– Пожалуй, – ответил молодой человек. – Хотя это и будет отклонение от прежней темы вашего разговора, но я думаю, что, и помимо «сверхъестественности» случай довольно интересен…
II
– Так вот, – начал рассказчик, – это было в N-ской тюрьме. Меня привезли туда перед закатом солнца. Вошли мы сначала в небольшую комнатку, помещавшуюся в пристройке, примыкавшей к тюремной ограде, но ход был снаружи. Обыкновенно канцелярии при тюрьмах в Сибири устраиваются таким образом, чтобы можно было входить в них и выходить оттуда, не тревожа начальника караула. Дело было осенью. Ветреный, но ясный день сменялся таким же ясным холодным вечером. Уже давно, когда мы мчались по дороге, залегавшей меж горами, я видел на небе слабо зарисованный серп молодого месяца. Из-за гор выбегали белые тучки, сначала по одной, потом целыми стаями, и быстро бежали по ясному небу, точно стаи испуганных птиц. На сердце у меня и без того было не особенно радостно, а тут еще эти молчаливые горы, дорога, широкими уступами скатывавшаяся в затуманенную долину, мороки в ущельях, унылый перезвон колокольчика и эти бесшумно летевшие по небу стаи облаков нагнали на меня какое-то особенно странное состояние духа. Как будто и тоска сжимала сердце, и жизнь среди этих бесцельных странствий надоела… Больше же всего надоело думать о том убежище, которое вот скоро уже ожидало меня там, в долине. Мы приближались к городу, а стало быть, мне предстояло ждать в тюрьме несколько дней, пока нарядят других провожатых.
Пыль или туман стояли над долиной, а быть может, и то и другое, только, вглядываясь в расстилавшееся подо мною пространство, я не мог разглядеть города. Что-то туманно-серое, грустное и неопределенное залегло на необозримое пространство у подножия гор, и наша повозка быстро катилась в это фантастическое море. Только глухой отдаленный звон доносился оттуда смутным гулом. Праздника не было ни в тот день, ни в следующий. Должно быть, кого-нибудь хоронили.
Я был не в духе. Мои провожатые, с которыми мы много и очень мирно беседовали дорогой, теперь притихли тоже, чувствуя, что мне не до разговоров, они понимали, по-видимому, что если есть в нашем взаимном положении что-либо не располагающее вообще к особенной дружбе, то теперь оно может сказаться резче, чем когда-либо.
«Господин, – заговорил наконец один из них с робким доброжелательством. – Вот скоро приедем в N-ск, уж вы, пожалуйста, там со смотрителем поаккуратнее».
«А что?» – переспросил я неохотно и с безотчетной досадой.
«Да так… Характерный очень…»
«А, черт с ним, с его характером, – огрызнулся я. – Мне-то какое дело».
Провожатый смолк. Наша повозка ехала уже между какими-то повалившимися заборами, пустырями и покосившимися лачугами. Город оставался вправо, а мы держали путь прямо к тюремным воротам.
В небольшой каморке канцелярии засуетились. Какой-то субъект в штатском платье и еще два человека в арестантских халатах и с тузами составляли штат тюремной канцелярии. Не только в Сибири, но во многих местах и в России смотрители тюрем употребляют арестантов на канцелярские работы. Обыкновенно это бывают какие-нибудь бывшие канцеляристы, посаженные «на сроки», которым, стало быть, незачем рисковать побегом. Порой это какой-нибудь «дворянин», «владеющий отлично пером» и прельстивший смотрителя своими талантами.
Послали за смотрителем. Писаря-арестанты как-то уныло и робко скрипели перьями, а штатский господин, с распухшей, очевидно, от водки физиогномией, тотчас же подошел к моим провожатым и завязал с ними беседу, стараясь выказать всю утонченность своих манер и своего слога. Я присел на скамейку у окна, облокотился на локоть и задумался.
То, что происходило теперь в канцелярии, как-то смутно проходило в моем сознании. В комнате становилось темновато, однообразно поскрипывали перья, тикали часы, жандармы переминались с ноги на ногу, позвякивая оружием, и по временам кто-нибудь из них зевал, прикрывая рот шапкой. Штатский господин свертывал себе из их табаку «гусара», а со двора слышалась охрипшая дробь барабана, давшего первую повестку к вечерней заре.
После второй повестки оба серых писца встали, аккуратно сложили бумаги и удалились, причем один позвякивал цепями. Еще раньше я видел, что один из жандармов о чем-то спросил у штатского господина, но тот многозначительно мигнул в сторону арестантов и ничего не ответил. Теперь, когда они вышли, он только оглянулся на меня и начал что-то тихо рассказывать. Я мог бы заключить и тогда, что он рассказывает что-то интересное, и, пожалуй, в другое время даже навострил бы уши; но в ту минуту я и видел и слышал все точно сквозь сон; странное состояние апатии и тоски овладело здесь мною еще больше. Собственно говоря, я даже не должен бы вам рассказывать тех мелочей, которые я сейчас передал, так как в ту минуту они прошли для меня совершенно незамеченными, и только впоследствии дальнейшие события заставили меня оглянуться в памяти на эти минуты, и мне удалось с некоторым усилием восстановить в уме потускневшие воспоминания.
Один жандарм, высокий, черный и худощавый, стоял, опершись о стенку плечом, и с видом усталого равнодушия смотрел сверху вниз на небольшого человечка, который, озираясь и понижая голос до самого тихого шепота, что-то суетливо рассказывал. Другой жандарм, тот, который предупреждал меня в дороге, – высказывал более внимания; его лицо выражало любопытство. Все это довольно смутно рисуется теперь в моей памяти, однако и теперь еще я ясно помню одно мгновение, когда вся группа была проникнута особенной экспрессией. Рассказчик, очевидно, рассчитывая на эффект, как-то приподнялся на цыпочки, подался вперед, сказал какую-то фразу и опять откинулся, как будто любуясь произведенным впечатлением. Действительно, оба слушателя отразили на себе одновременно одно чувство, которое мне трудно охарактеризовать одним словом. Более экспансивный из них, поменьше, – как-то тоже отдался назад, лицо его слегка вытянулось, губы чуть-чуть раскрылись. Высокий, более сдержанный, не проявил своего чувства ни одним движением, однако я очень ясно помню, что его фигура в эту минуту даже больше запечатлелась в моем уме: по его угрюмому лицу на мгновение пробежала какая-то тень.
Повторяю, в то время все эти впечатления проходили перед моими глазами, совершенно не касаясь сознания, и если теперь я могу передать их, то скорее благодаря свойству памяти сохранять даже бессознательные ощущения, как негатив сохраняет в течение известного времени дагерротипные образы. Не могу даже сказать, действительно ли я и тогда испытывал то неприятное ощущение при виде дальнейших жестов штатского господина, какое теперь неразрывно приурочивается для меня с этим воспоминанием. Сказав тихо еще несколько фраз, он подошел к окну, у которого стоял высокий жандарм, и, взяв рукой за решетку, провел затем той же рукой по воздуху каким-то странным жестом и затем присел у самой стены на корточки, склонив голову набок. Его фигура на корточках рисовалась на затененной стене каким-то очень неприятным пятном. Даже высокий жандарм слегка отодвинулся от окна. Быть может, впрочем, это движение объясняется просто желанием лучше видеть.







