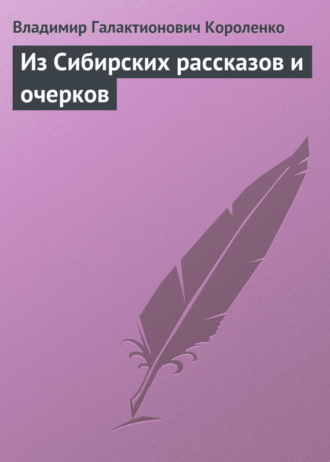
Владимир Короленко
Из Сибирских рассказов и очерков
Песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынешнего разговорного. Песенный язык родился где-то далеко, в неведомых глубинах Средней Азии, откуда великое смешение народов бросило жалкий осколок какого-то племени на дальний северо-восток. Он сохранил на севере пышные образы и краски далекого юга. От севера же, от пугливого морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит, как обвал, песня приобрела пугливую наклонность к чудовищным гиперболам, к гигантским устрашающим преувеличениям. Вот почему, надо думать, якутский Иванушка, бедный сиротина Эр-Соготох в своих горестных странствиях натыкается то и дело на сказочных молодцов, самый меньший из которых обладает икрами в обхват старой лиственницы, а глаза его весят по пяти фунтов.
Я стал в тени, не замеченный, и слушал песню станочника об Арабын-тойоне… Арабин, Арабин!.. Я где-то слышал эту фамилию. Мне стоило значительного усилия отодвинуть от себя сказочную фигуру, и из-за нее в моей памяти выдвинулась другая. В Иркутске, в знакомом доме, я несколько раз встречал – правда, мимолетно – казацкого хорунжего с этой фамилией. Это был человек ничем не выдававшийся, молчаливый, слегка даже застенчивый тою особою застенчивостью, которою отличаются болезненно самолюбивые люди. Я едва заметил его тогда, но потом слышал, что он чем-то обратил на себя внимание тогдашнего генерал-губернатора и что его употребляют для «особых поручений». Неужели это он? Неужели это о нем я слышу теперь по всему пути – о нем, чье имя едва различалось в иркутской толпе?.. Он уже третий раз пролетает по Лене в качестве курьера, и каждый раз толки о нем долго не смолкают на пустынной реке. На станциях он вел себя как человек, на единичные усилия которого возложено усмирение бунтующего края. Врывался, как ураган, бушевал, наводил панический ужас, грозил пистолетом и… забывал всюду платить курьерские прогоны. Вероятно, благодаря этим приемам он исполнял поручения в сроки, удивлявшие самых привычных людей, и начальство отличало его еще более. «Курьер» стало кличкой и чуть не постоянной профессией Арабина. Скромный и застенчивый в Иркутске, он становился совершенно другим, лишь только выезжал из города. Быть искренно убежденным, что всякая власть сильнее всякого закона, и чувствовать себя целые недели единственным представителем власти на огромных пространствах, не встречая нигде ни малейшего сопротивления, – от этого может закружиться голова и посильнее головы казачьего хорунжего.
И она действительно кружилась. В последний проезд он уже скакал через редкие города (Киренск, Верхоленск и Олекму), стоя в повозке и размахивая над головой красным флагом. В этом было что-то фантастическое: две тройки мчались, как птицы, с смертельным ужасом в глазах, ямщик походил на мертвеца, застывшего на облучке с вожжами в руках; седок стоял, сверкал глазами и размахивал флагом… Местные власти покачивали головами, обыватели разбегались. В этот проезд Арабин отметил свой путь таким количеством павших лошадей, воплей и жалоб, прорвавшихся наконец наружу, что почтовое начальство сочло необходимым вмешаться. Забегая вперед, скажу только, что из-за Арабина поссорились два ведомства, что непосредственное начальство курьера вынуждено было все-таки отказаться от его услуг, но, снабженный отличными рекомендациями, он перешел на службу еще дальше на восток и там, на Амуре, застрелил, наконец, наповал станционного смотрителя. Тогда об Арабын-тойоне заговорили даже в России, и только тогда узнали, что судить, в сущности, некого, так как знаменитый курьер был уже… вполне сумасшедшим.
Такова дальнейшая история грозного и несчастного Арабын-тойона, ожидаемого в эту ночь на далеком Ат-Даване. Вот о ком скрипела и завывала унылая якутская песня в ямщицкой юрте.
VI
В станционной комнате Михайло Иванович в одном белье сидел за столом. Кругликов помещался напротив в позе значительно более свободной, чем прежде. По наивному оживлению, сверкавшему в простодушно-хищных глазах моего спутника, я сразу увидел, что ему удалось уже завязать один из тех разговоров, до которых он был великий охотник. Это были именно разговоры чисто биографического и отчасти стяжательного характера: кто, где и каким образом сумел нажить деньгу. Все подробности наживательских драм имели для него какую-то особенную, обаятельную прелесть. Кругликов давал эти подробности охотно и с объективным спокойствием человека, глядящего на все это со стороны, глазами наблюдателя.
– Так, говоришь, прогорел? – спрашивал Михайло Иванович, наклонясь через стол.
– До основания-с! – ответил Кругликов и подул на блюдечко с чаем. – Совсем-с, так что, с позволения вашего сказать, в рубашке одной остался, да и та чужая.
– Ах ты, братец мой, какой человек пропал!
– Пропал? Ну, это зачем же-с! Где же этакому человеку пропасть! По здешним-то местам, я говорю, да этакой голове…
– Действительно, шельма естественная. Говоришь, поправился?
– Да еще как поправился!..
– Ну, дела!.. Чем же он взялся-то?
Кругликов поставил блюдечко и загнул палец:
– Первым делом – женится он вторично на вдове с капитальцем. Капитал, положим, ничтожный…
– Постой! Говоришь: женится! А первая-то померла, что ли?
– Живехонька-с! Это ничего не составляет.
– Ай-ай-ай!.. Н-н-ну-с? Что ты, братец, мямлишь, говори далее!
– Ну-с, и стал легонечко поторговывать на приисках спиртом.
– Спир-том?.. Ну, нет, ноне, брат, на спирту далеко не уедешь. Ноне, брат, на спиртовом-то деле тюрьму себе заработаешь, а богат не станешь. Не прежние времена…
– Ах, нет, позвольте-с, это вы напрасно! Спиртовое дело, оно само по себе, а ежели при этом пшеничка…[13]
– Ну, вот это так! ежели ловкому человеку…
– Этот ловок. Шире-дале, шире-дале и взошел он в копейку настоящую.
Михайло Иваныч хлопнул себя рукой по колену.
– Ах ты, братец мой! Вот голова, так голова… Пей еще! – предложил он радушно, когда г-н Кругликов положил пустой стакан на блюдечко в знак того, что он доволен, но выпьет еще, если его попросят (опрокинуть стакан и положить на него огрызок сахару – значило бы отказаться окончательно). – Пей! А что касающее должности, не сомневайся. Определю, будешь доволен. Я, братец, люблю разговорчивых людей. Только уж ты скажи мне, по правде-истине: хмелем зашибаешься?
Господин Кругликов посмотрел ему прямо в глаза ясным взглядом и ответил:
– Пью-с… Пьяницей или, сказать, пропойцей себя не полагаю-с, а пью-с… Но спросите: почему пью? – потому, что нахожусь в горести после прежней благополучной жизни. Вот и Иван Александрович – наверно, изволите знать, прииски у него богатейшие были – говорит, бывало: «Зачем, Кругликов, пьешь? Тебе бы, при твоем уме, вовсе бы касаться не надо… Почерк имеешь прекрасный, экипирован прилично, сам себя ведешь аккуратно… Тебе бы какое место можно занимать, только не касайся вина!» Так вот нет, сердце не дозволяет… «Иван Александрович», – говорю ему…
Господин Кругликов заволновался. По-видимому, он забыл, кому и по какому поводу он делал эти излияния, и, ударив себя в грудь, продолжал:
– Иван Александрович, благодетель, не суди! Господи! Да я бы смолу, – понимаешь ты? – с-смолу бы кипящую пил, ежели бы мог иной раз себе облегчение получить, – забвение горести! Смолу-у!.. Боже мой, создатель! за что ты судьбу мою в эту гиблую сторону закинул?.. Хлеба пуд – четыре с полтиной, говядина – восемь рублей! Ни спокою, ни пищи…
– Это верно, – поддержал Михайло Иванович, – корма-то здесь дороги, нечего говорить.
– Эх, нет, не то! – с тоской заговорил вдруг маленький писарь, и эта тоска глубоко щемящею нотой прорвалась в его голосе, промелькнула в лице, изменила всю несколько комичную его фигуру. – Не то-с… Сердце закипает во мне, размышление одолевает…
– Задумываешься? – перебил Михайло Иванович с каким-то пугливым участием.
– Бывает! – угрюмо сознался Кругликов.
– Ах, братец! Ты как-нибудь тово… брось… Самое это плохое дело. У меня, брат, смолоду тоже было; насилу отец-покойник выгнал. После женитьбы и то еще, бывало, нет-нет да и засосет… На свет не глядел бы от мыслей этих… Последнее дело!
– Чего хуже! Поверите: иной раз ночью проснешься, опомнишься: «А где-то ты рожден, Василий Спиридонов, в коих местах юность свою провел?.. А ныне где жизнь влачишь?..» Морозище трещит за стеной или вьюга воет… К окну, в окне – слепая льдина… Отойдешь и сейчас к шкапу. Наливаю, пью…
– Легче?
– В голову ударит, – ну, и омрачит отчасти… Затуманит, потому – настойка у меня… Водка настоена крепчайшая… А настоящего облегчения не вижу.
– Вот оно дело какое! И верно, что лучше бросить… Займись делом, оно, брат, тоже по голове-то ударит не хуже настойки… А скажи ты мне вот что: за что тебя сюда-то уперли?
Этот вопрос, предложенный с такою грубою внезапностью, прошел еще раз по всей фигуре г-на Кругликова, и еще раз она преобразилась, теряя в моих глазах прежний оттенок комизма. Казалось, какая-то искра пробивается из-под давно потухшего, но еще не остывшего вполне пепелища.
Он как-то подернулся, потупился, и его голос, когда он спросил позволения налить себе рюмку, стал глуше.
– Дозволите?
– Угощайся!
Он налил, осмотрел рюмку на свет, как будто ища там ответа на мучительный вопрос, выпил ее залпом и сказал:
– За любовь-с.
Михайло Иванович разинул рот от удивления. Я должен сказать, что заявление г-на Кругликова, высказанное с такою краткою решительностью, было так неожиданно, что заставило и меня взглянуть на него с удивлением. Кругликов, казалось, и сам понимал, что своими словами произвел значительную сенсацию.
– Да говори ты, братец, толком! – сказал наконец Михайло Иванович с досадой.
– Что ж, я правду говорю, – ответил Кругликов, – так как, собственно из любви к одной девице, в начальника своего, статского советника Латкина, дважды из пистолета палил.
Это было уже слишком.
Михайло Иванович окаменел и смотрел на своего собеседника какими-то бессмысленными, мутными глазами. Он походил на путника, который, пробеседовав часа два с самым любезным, хотя и случайно встреченным попутчиком, и совершенно очарованный его прекрасными качествами, вдруг узнает, что перед ним не кто другой, как celebrissime[14] Ринальдо Ринальдини.
– Из пистолета? – протянул он растерянно. – Как же это так? Да ты верно ли говоришь: из пистолета?
– Так точно-с. Пистолет настоящий.
– Палил?
– Два раза.
– Да ведь это, братец ты мой, такое дело, такое… самое, сказать тебе, политическое…
– Что тут поделаете! Судите меня, как знаете… Любовь-с.
– Да вы расскажите, Василий Спиридонович, как эта вся история вышла… – обратился я к г-ну Кругликову.
– Да, – поддержал мою просьбу и Копыленков, – что ж, братец, расскажи, расскажи, – ничего! Что уж тут… Удивительно!
VII
Господин Кругликов, отхлебнув последний глоток чаю, опрокинул стакан, положил на донышко кусок сахару и отодвинул все это от себя. После этих приготовлений налил себе рюмку и опять посмотрел на свет. Я сожалел в эту минуту, что я не живописец и не могу изобразить сложных ощущении, совместившихся на оригинальном лице ат-даванского станционного писаря, освещенном оплывшими сальными свечами. Круглый облик, пепельные, аккуратно причесанные волосы с чем-то вроде кока впереди, подстриженные котлетками бакенбарды и бритый подбородок. В серых глазах, внимательно глядевших рюмку на свет, можно было бы прочесть и предвкушаемое удовольствие, и тщеславную гордость заинтересовавшего слушателей рассказчика, и искреннюю горечь разбитой жизни и жгучих воспоминаний. Он, запрокинув голову, выцедил рюмку коньяку, поставил ее на стол, обтер губы истрепанным фуляровым платком и обратился к рассказу:
– Моя биография жизни, почтенные господа, очень печальная… Чувствительный человек может окончательно все понимать, а другие смеются-с… Впрочем, это все равно-с…
Он горько улыбнулся, все еще несколько рисуясь, и затем спросил:
– Не случалось ли кому из вас, почтенные господа, бывать в Кронштадте?
– Это где? – спросил Копыленков.
– Вблизи Петербурга, часа два пароходной езды-с, портовый город.
– Я бывал, – сорвалось у меня.
– Бывали-с? В самом Кронштадте-с?
Кругликов живо повернулся ко мне, и глаза его сверкнули оживлением.
– Да, бывал и даже жил несколько месяцев.
– Великолепный город! Порт, крепость, твердыня-с, оплот, окно в Европу-с… Превосходный город, уголок Санкт-Петербурга!
– Да, город хороший.
– Ах, как можно, как можно! Этакого другого города… да где вы найдете? Помилуйте. А правда ли-с, что теперь, говорил мне как-то проезжий офицер, на Екатерининской улице чугунная мостовая положена?
– Верно.
– Красота, должно быть!.. А пристани-с, Купеческая стенка, форт Павел, форт Константин…
Он увлекался. Моя мысль тоже как-то мгновенно перенеслась с угрюмой Лены в Кронштадт, где я провел несколько радостных месяцев еще студентом… Меня, как и Кругликова, охватили воспоминания: плескала морская волна, сливающаяся с невскою, свистел пароход, длинная дамба гудела под копытами извозчичьих лошадей, везущих публику с только что приставшего парохода, сновали катера, баркасы, дымились пароходы… Белые ялики с стройно взмахивающими веслами, грузные броненосцы, шпиц немецкой кирки, улицы, перерезанные каналами доков, где среди зданий, точно киты, неведомо как попавшие в средину города, стоят огромные морские громады с толстыми мачтами, каменные дома, бульвары, казармы, блеск и роскошь уголка столицы… И опять – лес мачт в синем небе, купеческая гавань, отлогая коса и шум морского прибоя… Синяя даль, сверкающие гребни волн и грузные форты, выступившие далеко в море… Облака, чайки с белыми крыльями, легкий катер с сильно наклонившимся парусом, тяжелая чухонская лайба, со скрипом и стоном режущая волну, и дымок парохода там, далеко из-за Толбухина маяка, уходящего в синюю западную даль… в Европу!..
Иллюзию нарушил, во-первых, новый выстрел замерзшей реки. Должно быть, мороз принимался к ночи не на шутку. Звук был так силен, что ясно слышался сквозь стены станционной избушки, хотя и смягченный. Казалось, будто какая-то чудовищная птица летит со страшною быстротой над рекою и стонет… Стон приближается, растет, проносится мимо и с слабеющими взмахами гигантских крыльев замирает вдали.
Копыленков нервно вздрогнул и затем, как это часто бывает после испуга, с досадой накинулся на Кругликова.
– Ну, так что же, – сказал он нетерпеливо, – родом ты, что ли, из этого самого городу? Начал, так уж говори толком, не мямли!
– Да-с, родом, – отрезал Кругликов с гордостью. – На Сайдашной улице и свет увидал. Сайдашную изволите знать? У отца моего в этой улице собственный дом находился, может, стоит еще и поныне. А родитель мой, надо сказать, хотя и из ластовых был, но место имел доходное и, понятное дело, сыну тоже дал порядочного ходу. Образованием не очень увлекался, ограничиваясь начатками грамоты и почерком, но, как и сам я был молодой человек аккуратный, по службе исполнителен и у начальства несколько на виду по причине родителя, то и стоял я, могу сказать, на лучшей линии… Да-с, по началу судьбы моей не того можно было ожидать, чем я ныне постигнут. Ясное утро и печальный закат-с…
– Не ропщи! – наставительно произнес Копыленков.
– Ну-с, итак… сказал я вам, милостивые мои государи, что у родителя был собственный дом на Сайдашной улице. А в этой же улице, насупротив, несколько этак наискосок, проживал товарищ моего отца, тоже из ластовых и, по выслуге, занимал место и еще тою доходнее…
– А какое? – не вытерпел Михайло Иванович.
– В порту, где происходят ремонт и постройка морского флота судов. Оклады тогда шли не очень чтобы сказать большие, но сторонний доход по тому времени выпадал обильно, – просто было! Можете судить по тому, что с должности редкий день уходили не обмотавшись…
– То есть это что же, насчет чего?.. – недоумевающе спросил Копыленков, для которого, как знатока по части самых разнообразных доходов, эта форма оказалась непонятной.
– Это, видите, в чем состоит. Судно морского флота не то, что ваши паузки. Наружность само собой, крепление там, ванты, рангоут и прочее, но еще внутренняя отделка требует материалу дорогого и тонкого. Великолепие, блеск и даже, можно сказать, комфорт… Ну-с, так вот, в материальных складах материй этих, лионского бархату, аглицких разных шелков… горы… Теперь представьте: надо ему уходить с должности домой; снимает он сюртук, берет кусок шелковой материи, обернет вокруг корпуса, опять одевается, уходит. Пришел домой, размотает его жена, как катушку какую, – вот и приобрел!
– Важная штука!.. Только как же их там не щупают, на выходе-то?
– Как можно! Рабочих, конечно, обыскивают у ворот, а с господами и обращение другое, на доверчивом начале.
– Ничего, можно дела делать… Только надо умному быть. Ежели на жадного человека, который не знает меры, – живо пропасть можно. Все-таки ведь казна!
– Будьте добры, продолжайте, – в свою очередь, перебил я, видя, что теперь увлекается уж Копыленков.
– Да-с, конечно, дело не в этом. А что просто было – это верно. Просто, просто, а только что просвещения было в нашем кругу мало, а дикости много… Из-за этого я и крест теперь несу. Видите ли, была у этою папашина товарища дочка, на два года меня моложе, по восемнадцатому году, красавица! И умна… Отец в ней души не чаял, и даже ходил к ней студент – обучением занимался. Сама напросилась, – ну, а отец любимому детищу не перечил. Подвернулся студент, человек умный, ученый и цену взял недорогую, – учи!
– Напрасно, – сказал вскользь Копыленков. – Баловство! Женскому полу это ни к чему…
– Ну-с, а я был той девице, Раисе Павловне, нареченный жених. Родители наши приятели были, мы почти что и выросли вместе, и задумали отцы между собою так, чтобы непременно меня на ней женить. И мы, с своей стороны, имели друг к другу чувствительное расположение. Сначала-то, знаете, дружба, играем, бывало, вместе, а потом уж и серьезно. От родителей препятствия не видели и имели постоянно друг с дружкой обращение.
– Грех вышел? – забежал вперед Михайло Иванович.
– Никакого греха! – отрезал Кругликов холодно. – И в мыслях не было, – оба младенцы чистые. Рая до чтения была охотница, так вот в этом больше и время проводили. Сначала Гуаки там, рыцари разные, Францыль Венецыян, – чувствительные истории!.. Пустяки, конечно, а нравилось: маркграфиня, например, бранденбургская, принцесса баварская, и при всем этом свирепый сераскир… Все такое-этакое… Возвышенные персоны-с и все насчет любви и верности упражняются и претерпевают приключения… Конечно, головы молодые! У меня все-таки служба, а она управится по домашности, как минута свободная – сейчас в комнате своей с ногами на диванчик, в платочек завернется и читает. Под вечер – я с должности вернусь – гулять идем, под ручку-с. В Кронштадте известно какое гулянье: на крепостной вал, на Купеческую стенку, бывало, сходим, на море смотрим… Она мне и рассказывает, что за день-то прочитала. Говорит, говорит, потом и задумается.
«Вот, Васенька, говорит, какие на свете бывали любовники… Вот бы и нам с тобой этак же. Можешь ли ты в испытании, например, верность сохранить?.. Вдруг бы ко мне какой-нибудь свирепый сераскир присватался?»
Ну, я, конечно, с своей стороны:
«Могу-то я могу, да только ведь нам, говорю, не к чему, если нас хоть завтра по родительскому приказу в соборе обвенчают…»
Смеюсь, конечно, потому что каждый день в канцелярию хожу, так и то обращение в свете имею, а она – дитё.
«Видишь, говорит, вон у маяка парусок бежит?»
«Вижу, бриг из-за границы идет».
«А что, говорит, может, на этом корабле пират едет: кинется вдруг, город спалит, тебе копьем грудь пронзит, меня в плен…»
Задрожит сама, испугается, жмется ко мне. Ну, я ее опять успокою:
«Что ты, бог с тобой! Это бриг идет голландский или там аглицкой, с хлопком. Мало ли их, эгличей этих, и сейчас по улицам ходит. Конечно, буянят иной раз, так ведь и в участок недолго».
«Да, – говорит и Рая, – наша жизнь есть совсем другая… Вот и студент, Дмитрий Орестович, тоже все смеется… А мне, говорит, что-то скучно…» – И вздохнет.
Ну, подошло время уже и о свадьбе думать. Начали отцы о приданом поговаривать. Вот раз мой отец и говорит: «Женить – так женить, нечего откладывать! Я, говорит, своему даю шесть тысяч, ты сколько?»
«И я, – Раин родитель отвечает, – столько же, вместе составится двенадцать – куда им больше?»
«Нет, – мой опять говорит, – не так! Сам подумай: мой Вася может время от времени в чины взойти, а твоя дочь какая есть, такая и останется, только что стареть будет. Тебе бы по-настоящему и десять тысяч дать не обидно…»
Слово за слово – заспорили. Тот человек горячий, а уже моего-то родителя будто муха укусила: укрепился на своем, и только. Гвоздит одно, не спускает ни копейки. Ну, тот, разумеется осердился.
«Когда так, говорит, ты своего щенка над моей Раичкой на целых четыре тысячи превознес, так не надо ничего. За генерала дочку отдам, не твоему пащенку чета!»
– Нашла, значит, коса на камень, – засмеялся Копыленков.
Кругликов взглянул на него с каким-то удивлением, как будто не расслышал, и продолжал:
– Ох-хо-хо! Так-то вот из пустяков началось. Надо же вам сказать, что начальник наш, действительно, на Раю начал умильным оком поглядывать. Он хотя, скажем, не полный генерал был, да мы-то в правлении всегда его вашим превосходительством звали. Сам приказал: «Для чужих я, говорит, может, и меньше полковника, а своим подчиненным я бог и царь!»
– А что ты думаешь? И верно! – опять вставил Копыленков. – До бога высоко, до царя далеко, а он тебя тут завсегда ухватит… Это он правильно!
– В летах он был преклонных, бездетный вдовец, и заметьте, сколько ни сватал из равных себе, – никто за него не отдавал: наружности был самой скаредной… Ну, и пала ему на глаз моя Раичка. Разумеется, она и не знала, тем более что я уж считался женихом. Из себя – дело прошлое – был хорош, росту хоть небольшого, да лицом приятен, усики там, волосы всегда напомажены и щегольнуть любил… Да и отец-то ее сначала все-таки жалел единственную дочку. А тут как забрало его за живое, встал на дыбы, захрапел и сейчас мне от дому отказ, как шест, а генералу надежду подал… О-ох! И стала у нас в Сайдашной улице генеральская карета прокатываться…
Глаза Кругликова стали влажны, искра из-под пепла пробилась яснее. К сожалению, он тотчас же залил ее новою рюмкой водки. Рука, подносившая рюмку, сильно дрожала, водка плескалась и капала на пикейную жилетку.
– А там и чаще! Пешком уж стал захаживать и подарки носить. А уж я-то на порог сунуться не смею: вдруг я туда, а генерал там сидит… Убиваюсь… Вот однажды иду с должности мимо одного дома, где студент этот, учитель, квартировал, – жил он во флигелечке, книгу сочинял да чучелы делал. Только гляжу, сидит на крылечке, трубочку сосет. И теперь, сказывают, в чинах уже больших по своей части, а все трубки этой из рта не выпускает… Странный, конечно, народ – ученые люди…
Кругликов улыбнулся тихою улыбкой, встал, пошарил в какой-то шкатулке в своей темной клетушке и вынес старую книгу.
– Вот, – сказал он, – посмотрите…
Я взглянул, и на меня пахнуло давно прошедшим. Книга была издания 60-х годов, полуспециального содержания по естествознанию. Она целиком принадлежала тому общественному настроению, когда молодое у нас изучение природы гордо выступало на завоевание мира. Мир остался незавоеванным, но из-под схлынувшей свежей волны взошло все-таки много побегов. Между прочим, движение это дало нам немало славных имен. Одно из этих имен – хотя, быть может, и не из первых рядов – стояло на обложке книги.
– Они-с, Дмитрий Орестович, сочинили, – сказал Кругликов, тщательно завертывая книгу в какой-то почтовый бланк. Очевидно, он хранил ее с гордостью, как одно из своих самых лестных воспоминаний о невозвратном прошлом.
Да, так иду мимо него, слышу, окликает: «Эй, вы, господин Венецыян, поди-ка сюда!»
Подошел я: вижу, что меня зовет… Шутник был.
«Что вам угодно-с?»
«Что вы это, говорит, маркграфиню-то бранденбургскую совсем, что ли, бросили? Ведь убивается».
Посмотрел на меня этак с головы до ног… «И то, говорит, как об этаком храбром рыцаре не убиваться…»
Вижу я, что это насмешка, а все-таки человек он был души добрейшей. Рая тоже сначала очень его боялась, потому что все больше смешком да срывом, а после очень хвалила. Я не обижаюсь и говорю ему:
«Что мне делать, Дмитрий Орестович, научите!»
«А вы, говорит, не знаете?»
«То-то, не знаю».
«Ну, так и я тоже не знаю… А все-таки должен вам передать, что Раиса Павловна ждет вас сегодня в сумерки у себя. Отца не будет, свирепый сераскир тоже в Тамбов уехал. Прощайте!»
«Посоветуйте, Дмитрий Орестович, как мне быть!»
«Ну, нет, говорит, я вам в этом деле не советчик. Я вот советовал Раисе Павловне, чтоб она бросила за окно всех сераскиров, да и Венецыяна одного кстати туда же… Не слушает; а вам что и советовать…»
Грустно мне тогда, признаться, сделалось. «Что, думаю, ему в самом-то деле надо мною смеяться? Чем же я хуже других-прочих женихов, только что вот несчастлив: невеста моя начальнику приглянулась. Так опять это вина не моя». Ну, потом вспомнил, что идти вечером с Раей повидаться, и повеселел.
В сумерки пробрался к ней… Кинулась мне Раиса Павловна на шею и заплакала. Посмотрел я на нее, не узнал. И та – и не та. Побледнела, осунулась, глаза большие, смотрит совсем по-иному. А красота… неописанная! Стукнуло у меня сердце-то. Не моя это Раинька, другая девица какая-то. А обнимает: «Вася, говорит, ми…лый, же…ланный, говорит, пришел, говорит, не за…был, не бр…»
Внезапно прилив слез подступил к глазам Кругликова, горло его сжалось спазмами. Он встал, отошел к стене и простоял несколько времени лицом к какому-то почтовому объявлению.
Взглянув на Михаила Ивановича, я с великим изумлением заметил, что и без того рыхлые черты этою не особенно сентиментального человека тоже как-то размякли, распустились и глаза усиленно моргали.
– Что уж это, – произнес он растроганно, – до чего чувствительная, право, история!.. Ну-ка ты, бедняга, чебурахни стаканчик! Ничего, брат, что делать! Жизнь наша, братец, юдоль…
Кругликов стыдливо подошел, налил, выпил и обтер лицо фуляром.
– Простите, господа почтенные, не могу… В последний раз я тогда Раичку свою обнимал. С этих пор уже она для меня Раиса Павловна стала, рукой не достать… воспоминание и святыня-с… Недостоин…
– Ну, ну, – защищался Копыленков от нового припадка чувствительности, – ты уж, братец, как-нибудь того, как-нибудь досказывай дальше. Что уже тут…
– Ну, просидели мы вечер этот. Раиса Павловна повеселела маленько.
«Полно, говорит, кого это мы, в самом деле, хороним. Ничего! укрепляйся, Васенька! Видно, и наше время настало. Помнишь ли, говорит, наш разговор на валу? Вот оно по-моему и вышло; свирепый-то сераскир – ведь это, говорит, сам Латкин и есть».
И засмеялась, а за нею я… Часто это у нас бывало; она, как солнышко из-за тучи, просветлеет – ну, и я, на нее глядя…
«Смотри, говорит, Васенька, укрепись; покажем, какая может быть наша любовь; ты только не сдавайся, а уж я-то не сдамся. Погоди, какую я вещь намедни купила…»
Вынимает из комода пистолетик. Так, небольшая штучка, – ну, да ведь все-таки оружие огнестрельное, не шутка. У меня даже в пятки вступило… Вот под конец вечера я эту штучку-то у нее из стола взял да тихонечко в пальто, в карман боковой, и спрятал… Спрятал, да так и забыл, да и она-то не хватилась… Сам на следующий день иду к родителю. Сидел он у себя, чертежи делал, судно они новое строили… Увидел меня, повернулся, в глаза не смотрит… Э-эх! чуял ведь, что сына губит из-за гордости своей… Да, видно, судьба!..
«Что, говорит, надо?» Я в ноги. Куда тут! и слушать не хочет. Встал я тогда и говорю: «Ну, когда так, то я нахожусь в совершенных моих летах. Женюсь без приданого».
А родитель у меня, надо заметить, хладнокровен был. Шею имел покойник короткую, и доктора сказали, что может ему от волнения крови произойти внезапная кончина. Поэтому кричать там или ругаться шибко не любили. Только, бывало, лицо нальется, а голос и не дрогнет.
«Вот, говорит, что дурак ты, Васька, право, дурак! Говоришь, а не сделаешь… А я скажу, так уж будет по-моему. Помни это: при твоих совершенных летах я тебя отдеру, как Сидорову козу…»
«Не может быть, говорю, я чиновник».
«Не веришь? Ладно».
Отворил окно, поманил пальцем… Жили у нас во дворе, во флигелечке, два брата – бомбардиры отставные, здоровенные, подлецы, усищи у каждого по аршину, морды красные… Сапожничали: где починить, где подметку подкинуть, где и новую пару сшить, а более насчет пьянства. Вошли в комнату, стали у косяков, только усами водят, как тараканы: не перепадет ли? Отец подносит по рюмочке.
«Вот, говорит, вам, господа бомбардиры, шнапсу на первый раз. Посмотрите вот на этого молодца хорошенько. Можете ли вы его моей родительскою рукой высечь?..»
Посмотрел тут младший бомбардир на старшего, а тот отвечает:
«Родительской рукой завсегда можно, – закон дозволяет».
«Ну, имейте в виду на будущее время. Как сигнал выкину, сейчас вы, говорит, его на буксир, клади в дрейф, грузи с кормовой части!.. Ну, ступайте все трое!»
Прихожу после того на службу, а там говорят: начальник звал. Вхожу. Сидит на кресле один в кабинете, искоса на меня смотрит, пальцами по столу этак барабанит, молчит. Потом повернулся, поманил к себе ближе, опять на меня смотрит.
«Вы, говорит, что это… Мечтаете?»
«Помилуйте, отвечаю, ваше превосходительство, кажется, со всем усердием служу и ничуть не мечтаю. Смею ли я?..»
«Нет, говорит, я не превосходительство вовсе… Не стесняйтесь, молодой человек. Нынче это, говорит, в моде-с. Такие времена, что начальство нипочем! Вы, кажется, имеете намерение жениться?»
«Это, говорю, ваше превосходительство, в моем возрасте и притом с дозволения начальства дело законное».
«Так, так… А кого имеете в виду?»
Замялся я. Погрозил он пальцем и говорит:
«Вот видишь, Кругликов, совесть у тебя против начальства не чиста, небось замялся… Ну, брось, забудь об этой девице думать, отринь, говорит, всякое помышление, получше тебя жених найдется. Ступай!»
Вышел я из кабинета, слезы у меня так и текут. В канцелярии и то удивляются. Должно быть, говорят, ведомости перепутал. А уж какие тут ведомости – свет мне не мил: тут – начальник, домой придешь – бомбардиры выбегают из флигеля, на окно к отцу смотрят, нет ли сигналу… Просто некуда стало податься, и что мне делать, не знаю, потому что выходу себе не вижу. Извожусь… Отец уж сам стал замечать и бомбардирам запретил меня тревожить. Выскочили они раз за сигналом, так я весь задрожал, рухнулся оземь, изо рта пена пошла. Ну, отец видит, что испортил меня тиранством, велел оставить, подумывать стал, сделался осторожнее. А гордость-то все-таки осталась… Царствие небесное! Пока жив был, не оставлял меня. Писал три раза в год и деньги сюда посылал. Перед смертию письмо прислал: «Простишь ли, сын мой, что я тебя несчастным сделал?..» Бог простит, конечно. Меня-то вот… меня-то никто не простил…







