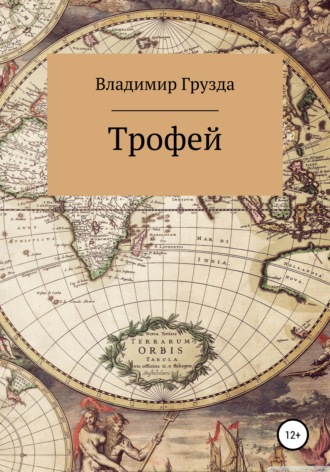
Владимир Грузда
Трофей
– Как же ты…Алешка…
20
Холодное солнце клонилось к западу. На землю опускались сумерки, но в вышине в голубом безоблачном просторе неба было светло.
Косые лучи заходящего светила золотили высокую неприступную крепость, возвышающуюся на пригорке. На башнях и крепостных стенах, ловя резвящийся в вышине ветер, гордо развевались шведские знамена, блистающие позолотой в вечернем небе. Там чудился иной мир. Залитый светом уходящего на покой солнца, наполненный свежим дыханием моря, овеянный ветром, несущимся ввысь. Иной, недостижимый, наглухо закрытый непробиваемыми стенами мир.
А здесь, на поле перед Колыванью, виделись лишь отблески скрытого лесами заходящего светила. Деревья отбрасывали на посеревший снег длинные темные тени. В этот предвечерний час тут смолкли все звуки, затих ветер, застыл воздух. Природа словно замерла в ожидании, чутко и напряженно прислушиваясь. Русский лагерь примолк после боя, покрытый сумрачными тенями, освещенный маяками костров. Между палатками виднелись лишь одинокие фигуры. Приглушенно слышались стоны раненых, изредка доносилось ржание коней.
Длинная тень от ближайших деревьев ложилась на походный шатер князя Шереметева. Штандарт старшего воеводы, установленный на высоком шесте у входа, сник в безветрии. Хоругви на знамени московского войска безжизненно обвисли. Лишенное яркости солнечных лучей боевое знамя потускнело, потеряв торжественность и величавость.
Но пришедшие стремились не туда, где лежал раненый старший воевода. Они повернули к соседнему шатру воеводы Передового полка. Охранявшие вход стрельцы в теплых шубных кафтанах серого цвета вскинули мушкеты на правое плечо, приветствуя тысяцкого. Следом за грозным полковником в палатку вошел и Хлебалов, неся перед собой завернутый в парчовую скатерть трофей.
Собственную обеденную скатерть тысяцкий вынес самолично, когда увидел добытое его воинами знамя. Сам бережно завернул драгоценный трофей, вручил его Хлебалову и одарил серебряной гривной.
Теперь они торжественно вносили вражий прапор в шатер князя Голицына. Вошли в погруженный в полумрак закуток. Плотная завеса отделяла их от входа в главное помещение воеводина шатра. Здесь размещался полковой дьяк, стояли небольшой топчан и походный стол. Горели два чадящих сальных светильника. Запах жженого сала пропитал комнатку и находящегося в ней человека.
Побудь здесь минут пять и сам прокоптишься и пропитаешься тяжелым сальным духом. Но зато здесь было тепло. После постоянного нахождения на открытом, промерзшем пространстве, даже закуток при входе в утепленную палатку воеводы представлялся прогретым помещением. Но, видя, как кутается в тулуп воеводин дьяк, Хлебалов понимал, что и в этом нетопленом закутке зябко.
При виде вошедших, дьяк встал и поклонился тысяцкому. Тот придвинулся и зашептал на ухо. Служивый кивнул и, сделав жест подождать, исчез за плотной серой занавеской. Через минуту занавеска отодвинулась и зычный голос провозгласил:
– Тысяцкий голова Семёнов к князю Голицыну, воеводе Передового полка. С трофеем!
Тысяцкий расправил плечи и чинно вошел пред ясны очи воеводы. Следом, чеканя шаг, держа перед собой военную добычу, вошел Хлебалов.
Они оказались в просторном помещении, освещенном четырьмя канделябрами, расставленными по углам. Высокие, в человеческий рост, они разгоняли мрак вокруг себя, но оказывались не способны осветить все пространство шатра. Поэтому на большом дубовом столе, за которым восседали десяток дородных воевод, стояли масленки. Две большие чугунные жаровни пытались отопить помещение, и время от времени пыхали, когда прогорало очередное полено, рассыпаясь красно-черными головешками. В этот момент на высоком потолке рисовались причудливые огненные блики.
Хлебалов вспотел. То ли от жары, то ли от присутствия в обществе высокородных начальников. Во главе стола, развалившись на высоком кресле, восседал князь Голицын, справа от него князь Хворостовский, второй после Голицына воевода Передового полка.
– Трофей военный! – заявил тысяцкий. – Моими людьми добытый!
– Кто добыл? – Голицын подался вперед всем телом.
– Кириллка Хлебалов, Лыкова десятка, сотенного головы Ипатова, маво Полка! – Тысяцкий сделал особое ударение на последних словах и подбоченился, гордо вскинув подбородок.
– Покажь!
Хлебалов вышел из тени полковника и выложил на стол захваченный прапор. В тусклом свете коптилок дорогая ткань блеснула, а серебряные и золотые нити орнамента заискрились.
– Со свейским зверем! – торжественно загалдели воеводы. Некоторые тянули руки и щупали драгоценный трофей. – Славный стяг!
– Сей зверь боле рычать не буде. – Хворостовский подмигнул Хлебалову.
Голицын одобрительно кивнул на эти слова, и сказал:
– В тягостный час добрая весть приспела! – он откинулся на спинку укрытого дорогой собольей шубой кресла. – Царь Иван больно охоч до стягов и прапоров. Сей дар великого князя потешит.
Довольный происходящим, тысяцкий Передового полка заговорил:
– Как писано в книгах древних: "Разгромил Игорь Святославович половцев, злато и серебро отдал дружинникам, а червлен стяг, бела хорюговь – храброму Святославичу!"
Воеводы благосклонно закивали. Затем заговорили разом, словно заранее распределили слова:
– Шереметев плох.
– Лекарей не подпускает.
– Баит: "На всё воля Божья".
– Как бы не помер.
Голицын опустил на стол могучую руку. Словно хотел стукнуть кулаком, но передумал. Заговорил неторопливо, но твердо и решительно:
– Ежели мы прапор ранее гибели Шереметева государю доставим – будет нам честь, ежели замешкаемся – быть беде.
Хлебалов удивленно поглядел на начальников московского войска, стоящего осадой под Колыванью. В переломный час битвы воеводы собрались не решать, как свергнуть противника в море, а думу думают, как нерадивостью государя не разгневать. Внутри зашевелилось, заерзало раздражение. Он знал, что лишь несколько мгновений отделяет его от перерождения этого чувства в гнев, а гнева в ярость.
– По всему, Кириллка, тебе к царю на поклон ехать. – обратился к ратнику князь Голицын. – Почет от государя получить, милостью светлейшего обласканным быть.
Кирилл заметил как пристально вглядывается ему в глаза второй воевода Хворостовский. Попытался отвести взгляд, но понял, что не успел скрыть своих переживаний от князя. Не даром говорят, что глаза – зеркало души, а скрывать эмоции Хлебалов не умел никогда. Он ждал, борясь с рвущимся наружу чувством, опасаясь лишь одного, чтобы вновь не подтвердилась поговорка: "язык мой – враг мой".
Хворостовский помедлил, затем сказал:
– Знаю я сего ратника, князь. Уж дюже он несдержан! Сболтнет великому князю чего не должно. Начнет воевод позорить! Не посылай его к государю!
– Знаю я человечка, кто осилит дело сие. – Вставил один из полковников.
За столом начались жаркие переговоры о том, как лучше обставить дело.
Такое Хлебалов стерпеть не мог. Гнев захлестнул. Кровь прилила к ушам и бросилась в щеки. Кулаки сжались до боли в суставах. Внутри воспламенился адский огонь, ищущий выход в тяжелых ругательных словах. Воеводы опять затеяли свои игры. Оболгать, извернуться, представить царю подложный доклад, выпросить себе награду, свалить собственную вину на другого.
Если бы дело касалось лишь его, Хлебалов бы не сдержался, и высказал все что думает. Но в этот миг он вспомнил умирающего Лыкова, протянутый к нему золотой нательный крест в окровавленной руке. Последние слова десятника отрезвили.
"Пущай черное останется в земной юдоли, а в Царствии Небесном токма благость и чистота."
Прапор добыт в честном бою, и награда за ратный труд должна найти своего героя. Ни он один – весь десяток сотворил сие, но Лыков готовил их к этому подвигу. Как ни ему принять милость государеву, кровью пролитой заслуженную.
– На то воля твоя, боярин. – поклонился в пояс Хлебалов. – Но имею к тебе просьбу.
Голицын насупился, взглянул на Хворостовского. Тот, прищурив левый глаз, молча следил за Кириллом. Уловив взгляд первого воеводы, согласно кивнул. Голицын для порядка помолчал – делал вид, что рассчитывает и прикидывает. Затем произнес:
– Твой трофей – тебе и почет! Чего просишь, служивый?
– Роман Лыков, десятник, древнего дворянского рода был.
Воеводы притихли, прислушались.
– Погиб он, прапор сей добывая. Но заслуга в том его не малая.
– Так чего ж ты хочешь? – Хворостовский усмехнулся. – Павшим Царствие Небесное, а земные награды – здравствующим.
Воеводы заметно расслабились и доброжелательно кивнули.
– Хочу челом великому князю бить за честь поруганную. Доблестью своей, кровью за царя и державу пролитой, искупил Лыков опалу царскую с рода древнего. О сем челом бить хочу, и прошение мое к тебе, князь, о том.
В шатре повисло тягостное молчание. Старшие воеводы переглянулись. Голицын потупил взор. Хворостовский с минуту подождал. Затем, полный решимости, поглядел в глаза Хлебалову:
– Коли принесем царю сие приношение, изольётся царска милость в изобилии. Всякому достанет! Ибо милостив царь Иван Васильевич, воинство вельми любит и просящих его от сокровищ своих неоскудно подает!
Воеводы довольно зашумели. Голицын встрепенулся и, властно махнув Кириллу рукой, заключил:
– Ступай, Кириллка. Ратный подвиг твой не забуду. С воеводами совет держать буду, как отличить тебя. И все, что обещал исполню. Лыкова в челобитной царю помяну.
Кирилл выбрался из душного боярского шатра. Выдохнул, и полной грудью вдохнул свежий морозный воздух. Он сдержался. Победил в себе беса. Сохранил уста от черных слов. Он вспомнил десятника Лыкова, безусого Алешку, дурочка Степана, Михайло, Игната, воинов десятка. Его боевых товарищей, оставшихся в мерзлой эстляндской земле. Но оставивших частичку себя в его душе. И сейчас память о них позволила ему устоять, преодолеть себя, перешагнуть через гордость. Ради них, ради их подвига, в надежде восстановить доброе имя рода Лыковых, истинных слуг государевых.
Хлебалов еще раз глубоко вдохнул свежий воздух. Запахи недавнего боя развеялись, и неподвижный воздух теперь наполнял аромат снега и хвои. Он поглядел вокруг иным взглядом. Он не видел палаток, телег, пирамиды бердышей и пик, воинские знамена. Он видел мир, погруженный в ночь, но ожидающий нового дня.
Зима еще сковывала землю ледяным панцирем, она еще дышала арктическим дыханием, но уже чуялось приближение иного сезона. Неуловимый аромат весны мерещился кругом, напоминая о скорых переменах и возрождении к новой жизни.







