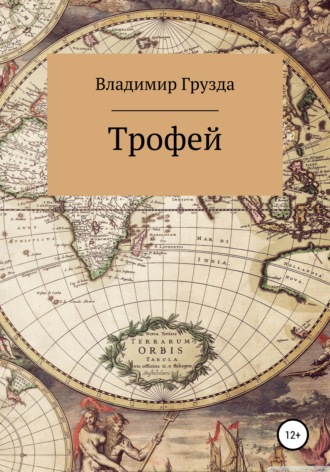
Владимир Грузда
Трофей
Вновь надрывно закашлялся Филипп. Заворочались соседи. Кислый запах пота отравлял воздух. И стоящий за пределами палатки мороз являлся благом, предотвращая усиление исходящего от немытых человеческих тел тяжелого духа.
После встречи с Хворостовским вся эта холопская солдатская жизнь вновь стала поперек горла. Он, потомственный дворянин, ютится в тесноте солдатской палатки, деля ночлег с тяглыми. Он, проливавший кровь рядом с воеводой Хворостовским. Сходившийся в верховом сабельном бою с лучшими людьми Речи Посполитой, теперь выступает в одном строю с конюхом Алешкой и охотником Филиппом. Он, командовавший дворянскими конниками, исполняет требования лишенного вотчины Лыкова.
Но князь Хворостовский его признал. Быть может еще не все потеряно, и судьба окажется благосклонна к нему? Бог не выдаст, свинья не съест!
– Осилим! – уверенно вставил Михайло, единственный считающий себя вправе высказаться ранее Хлебалова.
– Осилим! – в тон ему повторил Степан, продолжая тереть ладонями промерзлое сукно палатки, словно это кусок сыромятной кожи.
Хлебалов поморщился от раздражения. Но стращать запорожца на глазах всего десятка не стал. Ни место и ни время. Дай срок – и с ним разберемся. Хотя может оставить ему эту "косточку"? Пусть считает, что может поперед Хлебалова лезть. Пока можно. А потом спесь с него собьем.
– Я тебе так скажу, – твердо и уверенно, подпустив ленцу в голос, заговорил Кирилл. – С воеводой Шереметевым, да князем Хворостовским шведа мы в море скинем!
– А бают, что немец шибко пуляет хорошо. И пищалей у него боле чем у нас!
– Боле! – вставил своё дурачок.
– А мы немца на секиры, да на пики! Во це гарно сробится!
Михайло заржал во всё горло. Но его поддержал лишь Степан-дурачок. Остальные замерли в темноте, ожидая слов Хлебалова.
Кирилл бросил быстрый презрительный взгляд во тьму. Но повисшая в палатке тишина ободрила. Внимание слушателей польстило, слегка попустив от неотесанности малоросса.
– Я так скажу, – неспешно продолжил Хлебалов. – Шведа мы завсегда побьем. Коли воеводы наши не перессорятся, решая кто именитее, да родовитие.
Ратники одобрительно загудели.
– А чаво им делить? Они ж все наши?
– Наши, да не наши! – зло выплюнул Хлебалов, чувствуя, что начинает распаляться. "Заткнись ты уже!" – пытался он вразумить себя. Но язык жгло. Слова, словно раскаленные на огне ядра, сами рвались с губ, изливаясь желчью. Его бесили бесталанные воеводы, неспособные принимать самостоятельных решений. Тугодумные и ленивые, и оттого исправляющие свои огрехи жизнями ратников. Любящие красоваться на государевых смотрах, и первые бегущие с поля боя, оставляя служилых самим решать собственную судьбу в проигранном воеводами сражении. И все оттого, что один посчитал себя недостойным вступать в бой после менее родовитого князя. А другой решил, что раз он менее именитый, то и не станет ввязываться в сражение – пущай первый воевода сам своими людьми разбирается.
– Так знамо, Шеремет – старший воевода. – не унимался Алешка, не зная того, что подливает масла в кострище опаленной заушательством души Хлебалова. – Али Мстиславский? Не так?
– Вы не знаете ничего, – раздраженно бросил Кирилл.
Опять приходилось все растолковывать тяглым мужикам. Да был бы от этого толк, а то послушают-послушают, махнут рукой, да скажут: "Бог рассудит", и останутся в своей не рассудительности и невежестве. И чего он им рассусоливает? Но самомнение пихало слова изнутри, и сдержаться Хлебалов не мог:
– Я всяких воевод повидал! Под многими в походы ходил, да пуд соли съел!
Сомневаясь, что мужичье его поняло, добавил:
– Вот как с вами теперь.
– Што, в палатке одной спали?
Хлебалов чуть не подавился смехом от столь откровенной наивности.
– Нет, конечно. Но с одного стола едать доводилось.
По палатке вновь прокатился благоговейный шепоток.
– Так вот, родовитие – князь Мстиславский. Он и первый воевода, государем ставленный. Шереметев по нем второй, оттого и старший. Но, даст Бог, Шереметев нам победу добудет, а кто другой – нет!
В палатке повисло молчание. Служилые чесали затылки, соображая хитросплетения местнического воеводоначалия войска Московского. Вновь зашелся кашлем Филипп.
– А пищалей стенобитных у нас мало. То правда! – продолжил Кирилл, со злостью сжимая грубую солдатскую рогожу, мечтая этими же руками схватить и удержать собственный язык. – И харчей, да портков теплых маловато! Да доспех худой, и тот ни каждому даден. И пушкари наши бьют плохо. И сидим мы здесь как вши под скамьей. И наружу не выбраться – ибо перебьют, и остаться нельзя – ибо перемёрзнем. Завели нас под град сей на погибель!
– Погибель! – повторил Степан, и, как всегда, ни к месту засмеялся.
Хлебалов стиснул зубы. Ну зачем он всё это говорит? Чего добивается? А если донесут? А если прознает десятник Лыков? Тот сразу помчится к сотнику. И полетит Кириллова буйна головушка с лобного места, да в корзину. А всё оттого, что язык что помело!
Да и не верил же он сам, что не сладит с осадой войско русское. Пока Шереметев воеводит, пока пищали по стенам пуляют, пока ратные полки не поредели в чистую – будет биться рать Московская и возьмет сию крепость, град Колывань!
Но на языке вертелись другие слова, перед глазами рисовались иные картины. И это непотребство лезло наружу, стремясь захватить, одурманить, оболгать.
– Всё! Хватит балагурить!
Хлебалов со злостью сжал зубы и резко отвернулся к суконной стене. Натянул на голову вонючую рогожу и притворился спящим.
Вновь закашлялся Филипп. Что-то вполголоса забубнил Михайло. Ему не складно вторили другие ратники. Гоготнул Степан.
6
Небольшой лесок, почти полностью вырубленный на нужды осаждающей армии, отделял лагерь от поля, где изредка оттачивали боевые умения воины. Сейчас, в полуверсте от десятка Лыкова, конники Большого полка упражнялись в сабельном бое. Пехота полка Левой руки, маршируя строем под зычные команды сотников, утаптывала глубокий снег левее. Толстый тысяцкий голова на гнедой ногайской кобыле внимательно поглядывал на своих ратников, и временами подстегивал их отборными ругательствами. Служивых выгнали на поле не ради подготовки, а для воспитательной взбучки.
Все остальное московское войско уже грелось у походных костров, хлебало горячую похлебку, травило байки. И лишь их десяток съезжался, смыкал строй, отбивал атаки невидимого врага, рассыпался, обстреливая воображаемого противника стрелами, бесконечно отрабатывал приемы сшибки с вражьими пикинерами.
Хлебалов всё время отвлекался, любуясь как дворяне резвились на боевых конях. Те готовились к настоящему делу достойному детей боярских.
– Так, служивые, сегодня все. – наконец заявил Лыков. Ратники довольно загалдели. Мерины подхватили радостный настрой всадников, и, предвкушая кормежку и теплое стойло, довольно заржали.
– Все в лагерь. А Кирилл и Степан остаются.
Хлебалов удивленно поглядел на командира. Начинало смеркаться. Через полчаса в лагере станет темно, что в твоем подземелье.
– Зачем? – не удержался он. Отъезжающие ратники обернулись. Но, повинуясь указующему взмаху длани десятника, пустили коней по узкой тропинке в сторону мерцающих на фоне редкого леска костров.
– Зачем? – требовательно спросил Кирилл, приближаясь к восседающему на ногайской лошадке Лыкову.
Тот глядел на подъезжающего взглядом исполненным злобы:
– Перечишь командиру?
Десятник грозно придвинулся. Кони уперлись боками. Мерин грозно заржал. Лошадь Лыкова клацнула ровными белыми зубами, стремясь укусить. Два рослых вояки наклонились друг к другу, готовые рвануть из ножных сабли. На лице каждого застыла гримаса ненависти.
– Командиру! – гоготнул дурачок, продолжая неподвижно стоять, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. Его мерин пригнул шею и что-то высматривал на заснеженной земле, временами прядая ушами и косясь на съехавшихся воинов.
– Пошто оставил? – сквозь зубы процедил Хлебалов.
– Со Степаном стрелы господские подбирать будешь!
– А ты мной не понукай, аз не холопского племени!
– Племя твое мерзость-опричнина!
– Государеву службу сквернословишь!
Полк Левой руки, затянув заунывную солдатскую песню, направился на ночлег. Дворянские конники исчезли раньше. Теперь лишь три всадника, да порубленные стволы тренировочных дерев, утыканные стрелами, различались в сгущающихся сумерках на опустевшем поле.
– Что наушничать побежишь? – зло прошипел Лыков.
Хлебалов смутился, но лишь на миг. Конечно же, десятник знал приданого в его отряд воина. Все его промахи и огрехи. А иначе и никак: просто так из дворян в боевые холопы не подаются. Среди них лучших людей не водится – лишь худые, да порченные.
– Знаю я твою дружбу с Хворостовским. Воеводой-опричником! – гневно продолжал Лыков. – Ему и побежишь докладываться!
– Докладываться! – напомнил о своем присутствии Степан. Но на него никто не взглянул. Ратники стояли насупротив друга и яростно сжимали кулаки, готовые наброситься. Боевые кони нетерпеливо топтались на месте, чутко ожидая команды от всадников. Они злобно косились друг на друга, прижав уши и оскалив зубы, недоумевая чего же тянут люди.
– Аз честь дворянскую блюду, – выкрикнул в лицо обидчика Хлебалов.
– Нет чести у опричников! Не было – и нет! Мой древний род под корень извели! Порушили, осквернили. Аз один из Лыковых уцелел. Да и то в кабале холопской!
Хлебалов прищурил глаза, всматриваясь в ненавистное лицо. Никакой жалости или сочувствия он к десятнику не испытывал. В последние годы многие дворяне оскудевали, не могли нести за свой счет государевой службы и шли в боевые холопы, к другим более удачливым дворянам. Многие роды Кирилл зарил и сам, в славные годы опричнины. Но, видимо, пришел и его черед. Теперь он на себе испытал тяжесть и несправедливость кабальной зависимости от московского господина.
Теперь он боевой холоп московского дворянина Рогова. Он, верный пес великого князя, знавшийся с первыми людьми московскими, ходивший в парче и бархате. Теперь в кабальной десятирублевой зависимости от господина. Носит грубую солдатскую одежу и старый доспех, тягиляи и шапку железную.
А все этот Оладьин – будь он неладен!
В 1575, когда того только поставили в их город вторым воеводой, а Хлебалов только что выкупился из плена, они успели полаяться. Кирилл высказал все, что думает о бегстве под Коловертью и оставлении сотни. Воевода обиду стерпел, но ответил по другому. В августе устроил смотр. Хлебалов, издержавшийся на выкупе, не смог представить требуемого числа вооруженных воинов. Окладчики покивали головами и сообщили, что напишут сказку в Разряд, а Оладьин, "по старой дружбе", присоветовал ехать с челобитной в Москву. Кирилл поверил, поехал. И только в Разряде узнал, что Оладьин представил его ослушником государевой воли. Дескать второй воевода отдал приказ о направлении Хлебалова на заставу, но тот не явился на смотр. Кирилла посадили в тюрьму, назначили сыск. Началась тяжба, вытянувшая из него последние средства на посулы и подарки.
В конце концов, его объявили нетчиком. Окладчики и городовые дворяне бывшего опричника не поддержали. В долг никто не дал, в Разряд отписали, что он "неконен, нелюден и неоружен". Сочинили сказку и объявили челобитную подложной, а Хлебалова от службы бегающего. Вотчины его лишили, о чем в разрядной книге сделали запись. А виной тому его злой язык, упрямство и гордыня.
Теперь, все что оставалось – добыть воинской славы! Получить вотчину за службу. Спасти от смерти голову или воеводу – и получить награду. Или же заполонить воеводу вражьего – и получить выкуп. Ну или прославить себя героической смертью в бою.
Да где тут ратной славы добиться, когда две недели сидишь в лагере без дела.
Да еще и десятник лютует, возлагая на Хлебалова все несчастия своего рода.
Как подтверждение этой мысли, Лыков желчно высказался:
– Твой брат-опричник руку к сему приложил. А может ты сам ругался над сединами отца моего?
Кирилл злобно оскалился:
– Царской воле перечишь?
– Я служу государю верой и правдой, как и все мои родичи! На том месте, где его воля меня поставит. Но порочить Лыковых изменой не позволю!
Ярость клокотала внутри, стремясь вырваться. Но здравый разум начинал пробуждаться, ставя на место эмоции и чувства. Хлебалов был псом государевым пять лет. Навидался дворян, да бояр родовитых – земли русской благодетелей. Какими чванливыми, да надменными они казались, пока опричники не входили в их хоромы, неся весть об опале царской. Как те же древние бояре валялись в ногах, да умоляли о пощаде, сулили подарки несметные, да торговались за животы свои. Все они думали лишь о себе, готовые отречься от всех, согласные предать и оболгать любого.
Но видел Хлебалов дворян и бояр иного рода. Те стояли в оборванных рубахах, босые, избитые, но гордо глядели на жгущих их хоромы и разоряющих их запасы опричников. Такие клялись в верности государю, не поносили его псов, не соглашались ручаться в подложных грамотах. Такие и на смерть шли, утверждая верность своего древнего рода великому князю и земле русской.
В груди шевельнулось забытое чувство уважения и восхищения. Хлебалов поглядел на Лыкова другими глазами. В десятнике чудилось родство с той второй категорией служилых людей, доказывающих верность самодержцу не словом, а делом. А Лыков и был таков: он, потомственный дворянин, служит десятником боевых холопов московского господина. Исправно несет эту службу, а не отлеживает бока с другими командирами.
Ведь Хлебалов и сам, будучи командиром десятка и полусотенным головой, не упражнял так своих солдат в походе. А ведь те были вояками от рождения, родовыми дворянами, приученными к государевой службе. Лыков же сверх необходимого возился с тяглыми мужиками, порученными ему господином. Чтобы те уцелели в бою, принесли богатые трофеи хозяину и славу государю.
Но чернота изнутри прорвалась и осквернила все добрые мысли. Вспомнились тяжкие труды, возложенные на него Лыковым. Придирки и постоянный догляд, с каким десятник относился к бывшему опричнику. И Хлебалов не сдержался:
– Знать оплошал твой род. Крамолу затаил на царя-батюшку.
– Ты государя не тронь! Знаю я ваши душонки черные. Делов натворили, а на великого князя киваете! Вы землю русскую зарили, кровушку проливали. Вышел ваш срок!
– Срок! – Степан даже не сменил позы. Так и сидел в седле, вперив невидящий взгляд в сгущающиеся сумерки.
– Ты, десятник, говори, да не заговаривай. Расплата за грехи настигла твой нечестивый род. Вот и мыкайся теперь, грехи замаливай, покаянные дела твори!
Лыков задохнулся от злобы. В уголках его губ выступила пена. Зубы стиснулись со зловещим скрежетом. Блеск глаз стал безумным, и вырвавшиеся слова явились апогеем ярости:
– Аз тя смертью убью! Сие дело и станет покаянным! Твоей кровью поганой аз освящу род свой, обелю имя отца моего, сниму клевету и наветы!
Глядя в эти страшные глаза, Хлебалов знал, что Лыков не лукавит. Обещанное исполнит. И черные слова навсегда лягут меж ними, доколе смерть не примет свой плод. И что может быть проще? Когда палят со всех сторон, в пылу смертного боя, кто узнает из чьей пищали прилетела пуля в спину ратника?
– Смертью бить грех! – неожиданно сказал Степан. – Не тронь яво!
С моря задул холодный пронизывающий ветер. Пугливо заржали кони. Лагерь накрыла темная беззвездная ночь.
7
В эту ночь нормально отдохнуть не пришлось. Всю ночь посошная рать рыла новые укрепления, устанавливала щиты для огненного боя и затинных пищалей. На утро намечалось серьезное дело. Поговаривали о штурме.
Их полк спешили и отрядили в охранение, опасаясь ночной вылазки шведов. Костров разводить не позволяли, пытаясь сохранить приготовления в тайне для обороняющихся. Сидели в полной темноте, укрываясь за установленными щитами от резких порывов холодного ветра.
В низком черном небе мерцали холодные звезды. От дерева еще исходил приятный запах смолы и опилок. Такой домашний и мирный. Казалось невозможным, что завтра все это исчезнет, и землю накроет мрак иного рода, а пространство заполнят тошнотворные запахи разрушения и смерти.
Нарушая безмолвие, ратники переговаривались вполголоса и неохотно. Многие дремали, поплотнее укутавшись в тягиляи, полушубки и тулупы. Вокруг монотонно и усыпляюще стучали заступы, вскрывающие мерзлую землю. Темные курганы вырастали на белоснежном полотне перед воротами города.
На утро здесь все вспашут ядра и покроют тела убитых воинов.
Ратники охранения о грядущем бое промеж себя говорили всякое. Кто-то сетовал на бесполезное ночное сидение, кто-то радовался, что утром их сменят стрельцы и пехотинцы, и не придется первыми штурмовать город, кто-то бурчал о недаденном сне. Хлебалов маялся в бешенстве. Ночной караул говорил о том, что завтра в бой пойдут другие – почивающие сейчас городские казаки, стрельцы и дворянская конница. И значит честь и слава присовокупления Колывани к государству русскому достанется им. И значит самое ценное достанется другим.
С остервенением Хлебалов вцепился в пику, уперся спиной в щит, безуспешно пытаясь сдвинуть деревянную защиту. От напряжения вспотел, но даже такое упражнение не утишило кипящую внутри него ярость и отчаяние. А что еще он мог сделать?
На рассвете укрепление было полностью готово. Готовившие его воины уже предвкушали заслуженный отдых, когда засвистели вражеские ядра.
Лениво поднимающееся солнце осветило высокую крепость и эспланаду перед ней. Дозорные на башнях заметили вновь возникшее укрепление, и шведы решили не дожидаться дня, а взять инициативу в собственные руки.
В ясном, быстро светлеющем, небе не виднелось ни облачка, и оттого белые клубы, вырывающиеся из жерл пушек отчетливо выделялись, словно светлые кляксы над крепостной стеной. Десятки ядер забарабанили в грубо сколоченные щиты и земляные насыпи.
– Началось! – восторженно выдохнул Хлебалов, всматриваясь утомленными глазами в крепостную стену. Оттуда, пыхая огнем, плевались вражьи пушки. Сквозь бойницы виделись разбегающиеся по местам вражьи ратники.
– Началось. – лишенным эмоций голосом повторил Степан.
– Уж больно близко мы шанец нарыли. – высказал опасение Михайло. Хлебалов согласно кивнул. Двести саженей. Не больше. Закралось смутное предположение о неразумности такого решения.
– Головы в прорехи не казать! – предупредил вездесущий десятник, обегая своих воинов.
– А жрать когда? – вопросил Михайло, но Лыков не удостоил того ответом. Хлебалов понимал, что десятник и сам не знает, что будет дальше, и как действовать в этой изменившейся обстановке.
В полуверсте правее что-то грохнуло. Ввысь взметнулись черные клубы дыма, полетели обломки досок и какие-то тряпичные куклы. Ратники вздрогнули и приподнялись, чтобы разглядеть происходящее.
– Это человеки штоль? – испуганно спросил Алешка.
Со стороны крепости донеслись восторженные крики.
– Господе Исусе, – громко произнес Федот-пушкарь. В его голосе слышался ужас. – Кажись зелейную казну подорвали!
Хлебалова пробил озноб. Не от стоящего две недели мороза, не от усталости и голода, не от вида раскиданных взрывом трупов, а от понимания правоты слов боевого товарища. Федот восемь лет отслужил при пушке. Был контужен, оглох. Оттого всегда говорил громко. Глухой заряжающий сгодился бы в пищальном наряде и далее, но при ранении Федот упал на раскаленный пушечный ствол и спалил левую руку. Руку сохранить удалось, но действовать ей он мог лишь с ограничениями, хотя даже так, рогатиной орудовал лихо. Такой вояка в пушкарском наряде оказался не нужен, а для службы боевым холопом сгодился, став ратником Федотом-пушкарем. Но пушкарское дело Федот не забыл. И то, что говорил сейчас, являлось словами знающего человека. Рвались пороховые (зелейные) запасы.
Грохнул еще один взрыв, затем еще и еще. Земля заколебалась. Прижавшиеся к ней всем телом ратники пропускали эту дрожь через себя и усиливали собственным страхом. Комья мерзлой земли начали долетать до них. Со стороны разрывов, вглубь укрепления, в отчаянной попытке спастись, бежали воины.
Обстрел русских позиций усилился. Ядра и картечь черным роем неслись на укрепление, взрывая насыпи и оборонительные щиты. Впиваясь в податливую человеческую плоть. Ответный огонь звучал не дружно и не убедительно.
– Братцы, штож это?! – воскликнул Филипп, и зашелся надрывным кашлем.
Мимо промчался на вороном коне сотенный голова Ипатов. Сквозь грохот пальбы и взрывов прогремел его грозный рык:
– Смотри у меня! Караул не покидать. Ждать стрельцов. И на приступ!
Передав приказ, голова ускакал в глубь укрепления. В след ему гулко грохнуло со стороны ближайшего пищального шанца. Вверх взметнулись доски. Небо лизнули острые, как молнии, языки черно-красного пламени. Повалил густой дым. Вновь взрыв. И еще один. Из пушкарских окопов послышались отчаянные крики боли и ругань.
Взрывы гулко отдавались над полем. Одна за одной рвались пороховые бочки. Каленые ядра из шведских мортир раз за разом достигали зелейных схронов русских пушкарей. Укрепления потонули в густом сизом тумане. Лишь яркие огненные вспышки взрывов разрывали нависшую над укреплением дымовую завесу. Лишь горящие, почерневшие доски, взметаемые вверх, можно было разглядеть со стороны. Стоны раненых и крики зазвучали громче. Смятение усиливалось. А разрывы стали чаще и интенсивнее.







