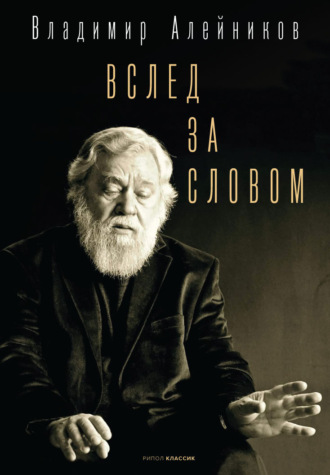
Владимир Алейников
Вслед за словом
Не хочу говорить об этом.
Если что и было когда-нибудь – то с него, как известно, и спросится.
Бог ему – да и всем нам – судья.
Битов – не пешеход. Он – автомобилист.
Вереницей, из года в год, чередою долгой прошли, появляясь во всей красе, чтоб исчезнуть потом вдали, в лабиринтах былых дорог, им сменяемые машины.
Он – давно уже за рулём. Словно сросся с автомобилем.
Современный кентавр? Не знаю. Кентавр – существо загадочное. Попробуй-ка разберись – кто он, собственно, был ли он?
В случае с Битовым – всё неизмеримо проще.
Он – человек в седле. Мягком. Автомобильном.
Для него машина, любая, – просто-напросто необходимость.
И сейчас впечатляет это. А по старым-то временам – впечатляло куда сильнее!
Марку Андрей держал – во всём. В том числе и с машинами.
Тем не менее, были они для него, человека в седле, прежде всего, удобным средством передвижения.
Однажды приехал в Москву он – из Грузии – на машине. Без ветрового стекла.
Разбил. Заменять было – некогда. Торопился писатель в столицу.
Да ещё и понравилось вдруг – ехать к северу именно так.
Ветер в лицо. Романтика? Может быть. Ну и что?
Гаишники – останавливали. Удивлялись: что за причуда?
Но что они, эти гаишники бестолковые, понимали, если – ветер хлестал в лицо, если прямо в глаза – пространство!
Было холодно, даже очень. Заболеть мог любой. Но – не Битов.
Битов холода – не замечал. Не хотел замечать – и всё тут.
Характер. Упрямство. Пристрастие – к дорогам. Воля. Желание – на колёсах, без чьей-либо помощи, пусть и в холоде, но – добраться – самому, как всегда, – до Москвы.
И – доехал благополучно. Ничего с ним в пути не стряслось.
Битов был – всегда при деньгах.
Даже в молодости. Неизменно.
Почему-то – умел зарабатывать.
Хорошо, что – умел.
Битов был – всегда на коне.
С самых первых шагов своих.
С самых первых своих публикаций.
С первой книги. И с первой рецензии. Вот на эту – первую – книгу.
Никогда он коня – не менял. Даже на переправе.
Через реку? Это – не Лета.
Через озеро? Это – не море.
Через море? Это – не бездна, из которой выхода нет.
Выход – был. Всегда находился. Из любых – везде – состояний. Сквозь любые – всюду – преграды.
Переправиться. Преодолеть.
Пережить – и добраться. Успеть.
На ходу. На коне. В седле.
По земле. По земле. По земле.
Иногда – над землёй. И – назад.
Чёткий принцип и трезвый взгляд.
На людей. На вещи – в труде.
Быть – так здесь. Никогда – нигде.
Не витать в облаках. Есть – путь.
Видеть смысл в этом. Или – суть?
Не всегда. Что пером скрипеть?
Есть – машинка. Издать. Успеть.
Есть – машина. Дорога – есть.
Сесть в седло – и… Куда? – Бог весть!
Однажды, в шестидесятых, услышав мои переводы с грузинского и расчувствовавшись до слёз нежданных, Андрей решил попытаться их напечатать, а если получится, то, может быть, и стихи мои напечатать, хотя бы подборку, для начала, пусть небольшую, но и то хорошо, в моём-то положении, – и повёл меня, человека не издаваемого во пределах родных, в редакцию журнала «Дружба народов».
А вернее – повёз. И – с комфортом. На машине. Своей, разумеется.
Был он автором в этом журнале.
Все его там прекрасно знали.
Все – любили. А как же – иначе?
Это – Битов, это – Андрей.
И его – нельзя не любить.
Вот мы с ним и поехали. Вместе. Не на выпивку. По делам.
За рулём он сидел уверенно и, по-своему, театрально, словно лётчик-ас за штурвалом быстрокрылого самолёта.
Очень шло ему это, всё-таки, – не ходить, как другие люди, по делам, или просто так, – но именно ездить. В машине. Просто так. Потому что – нравится. И особенно – по делам.
Битов был – на коне. В седле.
На мягком сиденье своём восседал он свободно, привычно откинувшись на скрипучую, при торможенье пружинящую, и такую удобную, что воспевать её можно, спинку.
С места срывался резко – и машина его, вливаясь в потоки шумные транспортные, вырываясь из них, обосабливаясь, летела, скользила, сквозила, стремилась, вперёд и вперёд, по вздымавшей свои этажи к небесам то слева, то справа, расстилавшей асфальт под колёсами, чтоб удобнее было ехать вдаль куда-то, к желанной цели, беспокойной, бескрайней Москве.
Добрались до редакции. Вышли на скрипучий, утоптанный снег. Захлопнули дверцы. Шагнули, один за другим, за порог.
Внутри было тесно, тепло.
За столами, плотно заваленными громоздящимися, наподобие восточных ступенчатых пагод, бумагами в папках с тесёмками и грудами всяких книг, сидели какие-то люди.
Оказалось, что сплошь – это надо же, что за чудо журнальное, – дамы.
Завидев Битова, все они оживились, заулыбались.
Закричали:
– Андрей! Андрей! К нам пожаловал сам Битов!
И волнение их охватило – да такое, что растеряешься, с непривычки, – ведь как ликуют! Словно праздника дождались.
Дамы с мест уже поднимались – и рвались навстречу Андрею.
Дамы пели что-то по-птичьи, щебетали, охали, ахали.
Дамы – рады были Андрею.
Битов – здесь!
Какая работа?
Подождёт работа.
– Андрей!
– Как мы рады!
– Здравствуйте, здравствуйте!
– Вот сюрприз так сюрприз!
– Андрей!
– Вы надолго к нам?
– Вы откуда?
– Вы куда?
– Вы к нам?
– Наконец-то!
– Дождались!
– Мы рады!
– Андрей!
Дамы – рады. И Битов – рад.
Мне – пути уже нет назад.
Мне – стоять и молчать. И – ждать.
Что же – дальше? Да что гадать!
Андрей, сняв очки, протирая запотевшие стёкла платком, огорошил восторженных дам заявлением громким своим:
– Я привёл к вам сегодня поэта гениального. Да, это правда. Вот, знакомьтесь, Володя Алейников. Перед вами, сейчас. Он – гений.
Дамы – все до единой, услышав это – сразу оторопели.
Я смутился. Взглянул на Битова.
И сказал:
– Ну зачем же – так?
– Ничего! – дружелюбным тоном успокоил меня Андрей. – Говорю всё, как есть. Как думаю. А народ – пускай привыкает.
И народ – все дамы, сражённые наповал словами Андрея обо мне и моей гениальности несомненной, – с трудом привыкал.
И к тому, что я молод совсем.
И к тому, что явно стесняюсь.
И к тому, что Андрей говорил обо мне, безусловно, всерьёз.
Нас обоих, поэта с писателем, двух друзей, пригласили присесть.
На расшатанном стуле, сжимая свою старую зимнюю шапку с опущенными ушами, в помещении тёплом снятую, расстегнув пальто, размотав шарф на шее, руки сложив на коленях, глядя смущённо вдаль куда-то, поверх голов, я сидел под взглядами, быстрыми, перекрёстными, любопытными, дам притихших редакционных, элегантных и моложавых, неуютно себя ощущая и не зная, куда мне деваться.
Битов, глядя на дам ласково, но и строго, из-под очков, с профессорской ноткою в мягком, низком, с баритональным бархатом властным, раскатистом голосе, невозмутимо, уверенно, продолжал говорить обо мне:
– Володя – следует помнить всем – основатель СМОГа.
Дамы переглянулись мигом. И – напряглись.
Битов сурово спросил их:
– Знаете вы – о СМОГе?
– Как же, как же! Конечно, знаем! – быстро ответили дамы.
И вновь меж собою, с этаким значением, переглянулись.
Эх, грустно подумал я, вот он, преткновения камень! Теперь-то всё уж точно, точнее некуда, не впервой ведь это, пропало.
Говорил же я, специально, по дороге сюда, в редакцию, говорил, и серьёзно, Андрею, чтоб запомнил: ни слова о СМОГе!
Так нет же, ну как нарочно, с этого он и начал.
Будто не знает, чего стоил мне этот СМОГ – и как это всё обернулось жестоко потом для меня.
И ещё неизвестно совсем, сколько лет, может, всю мою жизнь, потому что бывает всякое, предстоит мне всё это расхлёбывать.
Да чего уж теперь! Слово – сказано. А оно, как известно каждому, и особенно в нашей стране замечательной, не воробей.
К тому же и это, приставшее ко мне, величание – гением.
Ну разве нельзя без этого хоть когда-нибудь обойтись?
Приклеилась, как ярлык, и не отдерёшь, и не пробуй, ко мне, задолго до СМОГа, эта самая гениальность.
Можно ведь было представить меня сейчас поскромнее.
Люди – сплошь незнакомые.
Кто я такой – для них?
Так, молодой человек.
С Андреем сюда пришёл.
Может так быть? Может.
Мало ли что он взахлёб им обо мне рассказывает!
Люди они – казённые, подневольные, государственные.
В советском печатном органе, под надзором властей, работают.
Редакционные люди.
Люди – официальные.
А тут, ни с того ни с сего, – СМОГ! Да ещё и – гений!..
Андрей, между тем, указывая на меня простёртой ладонью, продолжал говорить внимающим любимцу-писателю дамам:
– Володя Алейников – знать об этом следует вам – знаменитый молодой поэт. Вы читали его стихи?
– Нет, не читали! – взоры потупив, ответили дамы.
– А я вот, представьте, – читал! – сказал им с укором Андрей. – И продолжаю читать. И наизусть кое-что могу прочитать, при желании. Замечательные стихи!
– Верим, верим! – сказали дамы.
– Надо стихи Володины издавать, – сказал им Андрей. – Может быть, с этим в дальнейшем и возникнут какие-то сложности. Я вполне допускаю это. Но Володю – надо издать. Сейчас. И потом – издавать. И я вижу, кажется, выход. Переводит Володя с грузинского. Замечательно переводит. Я слышал.
Мне – очень понравилось. И ведь это – как раз для вашего журнала. Рекомендую вам – его переводы!
– Ах, так? – опять меж собою переглянулись дамы. – Ну, это другое дело. С этим у нас куда проще, нежели со стихами. А то, как сказать-то вам, знаете ли, – обратились они ко мне, то ли ансамблем слаженным, то ли наперебой, да это уже и неважно, ведь всех их воспринимал я, от смущения, от ощущения себя здесь – белой вороной, – всех заодно, вот этих редакционных дам, во множественном числе. – А то, ну как объяснить, понимаете ли, Володя, – СМОГ. Мы ведь в курсе дела. Не на луне живём. Кое о чём наслышаны. Стихи напечатать – сложно. А вот переводы ваши с грузинского – это можно попробовать напечатать.
– Вот и попробуйте! – твёрдо и призывно сказал им Андрей.
На стенах редакционного тесноватого помещения разглядел я, резко сощурившись, какие-то надписи, подписи.
То, что в столбик записано, – это, скорее всего, стихи, – догадался я, не пытаясь прочитать хоть одну строку.
А короткие надписи – видимо, афоризмы, остроты всякие.
Ну а подписи – вон их сколько там – их отсюда и не разглядишь.
Редакционные дамы увидели, что смотрю я, сидя на стуле расшатанном и щурясь, на стену, исписанную от пола до потолка почти, во всю ширину, так, что и места на ней свободного не остаётся.
– Володя! – журча и звеня приветливыми голосами, обратились они ко мне. – А вы нам прямо сейчас что-нибудь не напишете? Стихотворение. Или хотя бы четверостишие. У нас – такая традиция. Наши любимые авторы свои автографы нам оставляют, – вот здесь, на стене.
– Да вы ведь, поймите меня, ничего моего и не знаете! – совсем уж смутился я. И растерялся даже, немного. Потом спохватился и продолжил: – Так вот, нежданно, с места в
карьер, спонтанно, я не привык. Вы меня врасплох застали. К тому же – я ведь не ваш ещё автор. Вы уж простите меня, но писать я сегодня не буду ничего. Если случай представится – то ещё напишу, потом.
– Ну, потом так потом. Понимаем! – дружелюбно сказали дамы.
Андрей с интересом писательским наблюдал, как я, деликатно, вроде бы, но и решительно, проявляя характер твёрдый, на ненужную мелочёвку не покупаясь, отказываюсь оставлять в редакции этой, по капризу дам, свой автограф.
– Да хоть что-нибудь напиши! – подзадорить меня он попробовал неуклюже, – любые строчки. Хочешь, я подскажу тебе, что здесь можно сейчас написать?
– Нет, нет, Андрей! – отмахнулся я от него. – Спасибо. Не надо. Нельзя так вот, сразу же, лишь бы обнародовать что-то своё, хотя бы на этой стене, привлекать людское внимание любым, даже этим, поспешным и ненужным, в общем-то, способом.
– Ну, как хочешь! Дело твоё! – пожал плечами Андрей.
Дамы снова переглянулись.
– Вы, Володя, – сказали они, – приходите к нам. Со своими переводами. Кстати, они с собой у вас или нет?
Я ответил им просто:
– Нет.
– Вот и ладно! – сказали дамы. – Ничего. Это всё поправимо. Вот мы с вами договоримся – и придёте вы к нам с переводами, на машинке перепечатанными, как положено. Хорошо?
Я сказал:
– Хорошо, я приду.
– Переводы ваши внимательно мы посмотрим, – сказали дамы, – и обсудим потом их, и что-нибудь, посоветовавшись, решим.
– Смотрите и обсуждайте, советуйтесь и решайте. Обязательно! – сделал акцент на слове последнем Битов.
– Ну что же, Андрей, – сказал я, взглянув на него вначале, а потом и на дам-редакторш, – мы, вроде, договорились. Пойдём? Наверно, пора!
– Пойдём! – согласился Андрей.
Попрощались мы с милыми дамами.
– До свидания!
– До свидания!
– Заходите к нам!
– До свидания!
Белых ручек лёгкие взмахи.
Взгляды быстрые – и пытливые.
– До свидания!
– В добрый путь!
И – улыбки, почти Джокондины.
Холодок подведённых глаз.
Восклицания:
– В добрый час!
– До свидания!
– Ждём!
– Привет!
Потемнел ли впрямь – белый свет?
Или – рано темнеть ему?
Что за странности? Не пойму.
Иль неймётся Третьему Риму?
Снег нагрянул. За снегом – дым.
Город замер – и стал седым.
Время СМОГа?
Мы вышли – в зиму.
Андрей открыл дверцы машины.
Мы забрались вовнутрь.
– Ничего из этой затеи не выйдет! – с грустью, нахлынувшей внезапно, вымолвил я.
– Почему? – озадачился Битов.
– Потому. Потому что – СМОГ.
– Ну и что? – Андрей удивлённо посмотрел на меня. – Ничего я, получается, не понимаю.
– Зато я хорошо понимаю, – так ответил ему я тогда. – СМОГ, Андрей, это значит – запрет. СМОГ – это чуть ли не рок. Для меня – хороший урок. СМОГ – это значит, и нынче, и впредь – не пускать на порог. В редакции, например. И газетные, и журнальные. И, само собою, в издательства. Там ведь не идиоты законченные сидят. Всё они хорошо знают – и всё понимают. Директивы и распоряжения, сверху идущие к ним, старательно выполняют. В том числе и о нашем СМОГе. Там напрямую сказано, по-советски: не издавать! Там, в циркулярах этих, я, между прочим, первым номером числюсь. Так-то. По алфавиту, естественно. Поскольку моя фамилия с буквы «А» начинается. Да ещё потому, что власти не желают меня печатать.
– Да? – протянул Андрей. – А я им начал – со СМОГа. Я ведь хотел – как лучше.
– Сказал бы ты им или вовсе ничего не сказал о СМОГе, – пояснил я устало Битову, – это не столь уж и важно. Всё равно они, эти дамы, сразу же сообразили бы, что я-то и есть тот самый Алейников. Тот, которого приказано – не печатать.
– Но всё-таки ты попробуй, – буркнул Андрей, – принеси им свои переводы. Вдруг да получится с публикацией?
– Принести-то я принесу, – сказал я, – да вот относительно публикации – сомневаюсь. И даже не сомневаюсь, а знаю, уже сейчас: ничего с ней, увы, не получится. Время такое – сложное – у меня. Свежи у властей наших воспоминания – о недавнем прошлом, смогистском, как его именуют, моём. Появляюсь я часто на людях или редко – везде я чувствую неприятное, странноватое, с подковыркой какой-то, внимание – ко мне, ко всему, что я делаю, что говорю, и так далее, и внимание это значит – непрерывное наблюдение. Плевал я на это, конечно.
Да противно, поверь. И грустно. Терпеть приходится. Что же делать? И ждать, как всегда. Жить – и ждать. Да только – чего?
Битов, блеснув очками, закурил, взглянул на меня как-то искоса, сквозь белёсый дым табачный, и промолчал.
Шумно вздохнул. Завёл машину. Тронулся с места. Быстро довёз меня до дому.
Сильный, белый, обильный, слепящий, резко, наискось, густо летящий, с грустью, к радости предстоящей, снег округу заполонил.
Снег, скрывающий все обиды, все следы, от покрова Изиды к лёгким радугам светлой Ириды уносящий всё, что хранил.
Снег – белизна. Как с чистого листа – в несусветной темени. Снег – пелена. Что ж, выстоим сызнова – в чистом времени. Пелена, за которой, похоже, никакого просвета не видно. Белизна, за которой всё же проясняется что-то скрытно.
Попрощались мы, как-то наскоро, без особых эмоций, с Андреем.
Почему-то – устали оба.
Говорить было, вроде бы, не о чем.
Всё и так уже было сказано.
Нитью вьющейся с чем-то связано.
С чем? Поди угадай. Попробуй.
Снег казался – белой чащобой.
Дымом. Скопищем зимних дум.
Битов был насуплен, угрюм.
Знать, на это была причина.
Зафырчала его машина.
Он уехал на ней – сквозь снег.
Словно тихий покинул брег.
Вдаль умчался. И – вглубь. И – ввысь.
Вихри снежные поднялись.
Белизна сомкнулась вокруг.
Снег – и СМОГ. Словно брат и друг.
СМОГ – и снег. Словно да и нет.
С чёрным вечером – белый свет.
Я остался один, в глубине тишины, посреди снегопада.
Постоял. Поглядел – куда?
В неизвестность, скорее всего.
И – пошёл домой восвояси.
Хлопнула дверь подъезда.
Лифта я ждать не стал.
По сырым, скользящим ступеням поднялся на четвёртый этаж.
Позвонил. Подождал. Мне открыли.
Я стряхнул с себя снег – и вошёл…
Переводы в «Дружбу народов» я принёс. Потом. С неохотой.
У меня их – взяли. Сказали, что посмотрят. Что надо звонить, узнавать… С публикацией этой ничего, конечно, не вышло.
Всё заглохло – само собой. Будто не было ничего.
Кроме зимнего дня – и снега.
Кроме снега – и слов о СМОГе.
Кроме снега – и зимнего сна.
* * *
…Сновидение, что ли? – Снег. В Киеве, в шестидесятых.
Зима с искристым, приятным, едва ощутимым морозцем.
Январь? Февраль? – Да неважно. Уже, наверно, неважно.
Совсем неважно, пожалуй, – так я теперь скажу.
Важно – что снег. В Киеве. Городской, лиловатый, вечерний. Мягкий, приветливый, влажный. Добродушный, чистый, живой.
Вечер. Довольно поздно. Мы только что прилетели сюда самолётом – вдруг, под настроение, вмиг решились на это, собравшись – там, в холодной Москве, – в путь. Почему? Не знаю. Так, по чутью. На зов. Или – на звук? Чуда? Пожалуй. Скорее всего. И вот – оказались в небе. Порыв, перелёт, – и мы здесь.
Из аэропорта, сквозь снег, добираемся в город. И вскоре – мы уже там, где хотели быть в этот вечер – в городе, в его уютной, домашней, давно обжитой сердцевине.
Окна – где-то вверху,
окна – внизу, под ногами,
окна – сквозь спуски и сквозь крутизну,
окна – вечерние, тёплые,
на разных загадочных уровнях и на любой высоте.
Везде, в углах, в закутках, вдоль оград, во дворах, за стенами, за холмами, за каждым домом – сгустки синей, почти сырой, а ещё – почти смоляной, а ещё – подвижной, текучей, и тягучей, и вовсе не страшной, а, скорее, нарочно хмурящей свои чёрные, пышные брови и с немалым трудом, пожалуй, как-то сдерживающей себя, чтоб не прыснуть, не рассмеяться, карим глазом своим сверкающей, темноты, за которой – свет.
Жёлтые, белые, розовые, оранжевые, зелёные – огни, весёлые россыпи блёсток, лёгоньких искр.
Пульсирующее мерцание.
Узоры, круги, повторы.
Отсветы, вспышки, лучи.
Но главное – сам снег.
Снег – на улицах, в парках, в ярах и на кручах, на тротуарах, на дорогах и в подворотнях, на скамейках, на крышах, на свисших проводах, на плечах у прохожих, снег везде, вдали и вблизи, снег и здесь – и, конечно, повсюду, куда ни посмотришь, куда ни шагнёшь – пушистый, праздничный снег, снег – так с избытком, снег – вот сейчас, и сразу на всех – снег, снег – значит, впрок, и на потом, и чтобы потом – ещё на потом, и чтобы хватило на всех киевлян, и вместе с ними – на всех землян, – снег, снег, – да какой!
Снег, тяжестью всею своей пригнувший кусты до земли, выгнувший ветви деревьев, особенно длинные, гибкие, тонкие ветки верб, наклонивший их дугообразно, и тополя изумлённые запросто превративший в белые веретёна, и кроны каштанов раскидистые сделавший серебристыми, хрупкими, с белизною, влажною и туманною, изредка – чуть качающимися, больше – на месте застывшими, подсвеченными фонарями, затронутыми сединою, сплошной чередою стоящими вдоль улиц, густыми шарами, —
снег, устроивший, на ходу, на бегу, на лету, в движении непрерывном, в лёгком кружении, невиданную доселе, фантастическую геометрию, с нарушением всех привычных пропорций, со всеми этими конусами, овалами, изгибами, пирамидами, витыми спиралями, сферами, – в любых, куда ни взгляни – возможны они, направлениях, на все четыре распахнутых в пространстве стороны света, во всех измерениях, всех состояниях, настроениях, во всех вариантах, всех ипостасях, во всех возможных и невозможных, пусть, поворотах, наклонах, изломах, прорастаниях в глубь и в даль, в высь, которая вроде бы рядом, в связях – явственных, мнимых и тайных, и в узлах, и в сплетеньях, и в швах, и в разъятьях, и в сросшихся тканях, с треугольниками и кругами, и квадратами, и кристаллами, и солярными знаками, и штрихами воздушными, и зальделыми ромбами, да и прочими, странными, небывалыми, новыми, не такими, как прежние, никогда никем и не виданными, удивительными фигурами, – причём сами линии были певучими на удивление, и растений всех очертания музыкальными были, звучащими, и повсюду, если прислушаться, можно было услышать стройно звучащую, плавно льющуюся, многоголосую музыку, зимнюю музыку, снежную, тёплую, городскую, —
и всё это было – снег, а с ним и вечер, и Киев, и это была – явь, а вовсе не сновидение, и всё это было – с нами. Конечно же, волшебство!
Ну разве не сказка? Сказка?
Ну разве не песня? Песня.
И разве не Киев? Киев.
Со снегом, с его теплом.
За синевой густой и белизной воздушной, за горячей желтизной и зеленью дремотною, не сразу, чуть погодя, чтоб радовать потом, – конечно же, являлись, возникали глаза друзей, и лица их, и речи, и всё, что неминуемо сбывалось, и всё, что продолжалось и росло – сквозь время и пространство, за которым нам брезжили иные измеренья, сквозь этот снег, с его началом лада, с преддверьем рая и предвестьем ада, с его сияньем, – то-то в нём отрада для нас, теперешних, и лишних слов не надо, – за ним, чурающимся смуты и распада, за ним, тогдашним, – странная привада! – уже бесчасья горбилась громада, уже мерещилось виденье звездопада, чтоб века нового дождаться нам, где Града, уже небесного, увидим снег… Иль свет?
Откуда взяться им в грядущем? Да отсюда! – из этой музыки, из явленного чуда, из этих сказочных, крылатых наших лет, поскольку равных им и не было, и нет.
И я там был, мёд, пиво пил, – и даже, средь этого блаженства или блажи увидев тень мистерии в пейзаже, был снегом киевским и дружбами согрет…
* * *
…Петербург в конце февраля и в начале марта, прекрасный город снов и мечтаний, рай, за вратами которого высвечен в полумгле, в трепещущей, зыбкой, беспокойной дымке, в тумане, в переполненном влагой воздухе, над скопленьями крыш, над всем, что вверху и внизу, вокруг, и в былом, и в явленном ныне, жутковатый и притягательный, грозный лик Медузы Горгоны, —
Петербург, желанный, зовущий неизвестно куда, чужой и родной, обжитой, знакомый, со звонками друзей телефонными, долгожданными встречами, новыми разговорами и прогулками, размышлениями и догадками, пониманием и вниманием, неким гулом за каждым словом, каждым шагом и каждым взглядом, гулом странным, то отдалённым, то чрезмерно близким, томящим, различимым ежесекундно, гулом бездны морской и выси поднебесной, гулом тревожным галактической глуби, звучанием, оркестровым, органным, властным, —
Петербург за окном вагонным отодвинулся вдруг, остался позади, на месте своём, там, где был он необходим людям, птицам, ветрам, речам, всем живущим и всем поющим, всем частям единого целого, дивной ткани, великой музыки, вечной муки, блаженства, блажи, отголосков абсурда, бреда, всплесков радости, песен счастья и любви, томленья по чуду, светлой грусти, горенья общего и дыханья долгого, повести о таком, что слишком уж дорого для души и для сердца, истинном, всем, всему, решительно всем, —
поезд шёл, набирая скорость, вдоль снегов и лесов, незаметно превращались минуты в часы, день всё длился, – ну вот и Москва.
…Я проснулся от птичьего щебета. В лесу, за моим окном, звонко, самозабвенно, пичуги, славя по-своему солнечный свет и утро мартовское, со снегом, с зеленью хвои сосновой, со сквозной белизной берёз, вопрошая о чём-то важном, пели на все лады.
Ответить на эти вопросы предстояло, видимо, мне.
Почему? Да так уж сложилось. Не случайно – это уж точно. По судьбе, пожалуй. Конечно же. По судьбе. Как в сказке. Вернее – в яви. Нашей. Такой, в которой всё возможно и всё бывает. В том числе и необъяснимые никакой заграничной логикой, но живые, давно привычные в настоящем сумбурном времени и уже помаленьку идущие чередой неровной в грядущее, наши, кровные, несомненные, неизбежные, сокровенные, и поэтому – драгоценные, вдохновенные, дерзновенные, незабвенные чудеса.
* * *
…Море.
Вспомним теперь – о море.
Эти вечные всплески чаянья, эти выплески грусти в поисках долгожданного и надёжного, почему-то необходимого, неизвестно зачем приснившегося, от сторонних взглядов укрывшегося где-то рядом, вон там, наверное, убежища на земле.
Этот гул или грохот, эта, с отрешённостью в дружбе, усталость, это – в конце концов – нахлынувшее нежданно, застигнувшее врасплох, озадачившее, смутившее, вдохновившее на поступки, ну а может быть, и на подвиги, запоздалое понимание, словно вспышка молнии, вдруг, прояснившая разом сознание, сквозь туман: я тоже стихия, да, представьте, и на земле мне, мятежному, делать нечего, посему простите, прощайте, в путь, вперёд, я само по себе.
Этот запах влажных ракушек и водорослей мохнатых, эти мидии, присосавшиеся к бугристому, ноздреватому, подводному тёмному камню или, вынутые из створок загорелой до черноты, одичалой от жизни летней, слишком вольной для горожан, развесёлой оравой романтиков, грудой скользких моллюсков брошенные в кашу, пищу богов, готовящуюся, по традиции устоявшейся, разумеется, на огне, в бухтах, скрытых от глаз людских, среди скал, вдалеке от здешней примитивной цивилизации, где палатки, дубняк, следы талой, дикой весенней воды на безмолвных склонах видны, словно давний привет с луны, Кара-Даг, остатки костров, разгулявшиеся гитары, эти мидии, с тусклым жемчугом, в них наросшим, и без него, запах моря, когда ныряешь за ними в маске, привычные, неустанные вдохи и выдохи.
Море.
Песня моя задушевная, бесконечная, как у татарина, обо всём совершенно, что видел, обо всём, что услышал, узнал.
Песня, пускай угасающая, затихающая постепенно, понемногу, так, чтоб звучать на просторе как можно дольше, чтобы жить, и не только в памяти, но и в области слуха, и даже в заколдованной области плача, как сказал однажды поэт, уходящая, разумеется, в никуда, но и в то же время не желающая исчезнуть и намеренная остаться вместе с нами, вот здесь, на этом берегу, где стоим теперь мы и пытаемся слышать то, что раскроется в озаренье, и уже напрягаем зренье в постиженье своём простом то ли музыки, в небесах запропавшей вдруг почему-то, чтобы ей потом появиться, чтобы нам на неё дивиться, то ли вытянутого вдаль и упругого, как спираль, непредвиденного пространства, песня, вроде бы нисходящая по наклонной, к нам снисходящая благодатью с высот, чтоб не было немоты, слепоты, глухоты, чтобы нам не пропасть во мраке, чтобы выйти сквозь ночь на свет, песня – чудо, песня – завет, песня – птица, песня – мечта, восходящая красота, песня – весть, чуть слышная, но продолжающаяся в грядущем, не теряющаяся сразу, словно резкая грань алмаза, разрезающая стекло вод, где к слову придёт число, —
как долгий след корабля почему-то всегда остаётся позади, остаётся, и всё тут, ничего не поделаешь с ним, есть, как данность, как вероятность откровенья или забвенья, есть вдали, есть в любое мгновенье затянувшегося прощанья, как прощенье, как обещанье новых встреч и новых разлук, есть, как есть ведь на свете друг, есть, как оклик, а может, вздох, есть, как грань меж крутых эпох, и томит нераскрытой тайной, и прослеживается часами посреди беспокойных волн, —
вон туда он пошёл, корабль, вон туда он, смотрите, направился, вроде, маленький, чуть заметный, или нет, конечно, большой.
А на земле в это время, в это же самое время, в те же часы и минуты, в те же мгновенья, тут же исчезающие, чтоб за ними вырастали мгновенья новые, продолжаясь до бесконечности, всё возможно, всё вероятно, всё издревле материально, потому что известно, что время это просто сама, запомните навсегда для себя, материя, так-то, братцы, – на берегу – варят кашу с привкусом дыма, жгут костры, отрешённо играют, как уж выйдет у них, на гитаре.
А в порту есть ещё и собратья вдаль ушедшего корабля – тоже смелые, тоже плавучие, тоже, стоит отметить, крепкие.
А в Москве, далеко, есть женщина одинокая и окно.
А вон там, наверху, есть мелко, дробно как-то, слишком извилисто, коренастым поросшая лесом, несгораемая гора.
И ходим-то мы – не забудьте об этом, друзья, – по вулкану.
Помнишь поездку в «Газике» от Феодосии, кажется, нет, конечно же, от Керчи, солнцем выжженной, просолённой ветром с моря насквозь, донельзя, словно связка бычков сушёных, во дворах своих и на склонах Митридата, везде, повсюду, разбросавшей щедрыми пригоршнями цветовые пятна и запахи, впрок, наверное, на потом, чтоб хватило на всех когда-нибудь их с избытком, до Феодосии, в самом конце скитальческого, переполненного событиями небывалыми, шалого, знакового, жаркого, звёздного августа, под дождём проливным, сто двадцать километров отчаянных в час, нас много, и мы сидим слишком тесно, вплотную друг к другу, пассажиры, и нам, разумеется, почему-то не по себе, страшновато нам иногда, прямо скажем, от гонки этой сквозь отвесные струи дождя, сквозь косматую мглу, сквозь вечер, назревающий постепенно вдалеке, в стороне, вперёд, может быть, и нам повезёт, как везло и прежде, бывало, дай-то Бог, а шофёр беззаботен?
Помнишь приезд стремительный в Коктебель, ожидание нового – мыслей, чувств, настроений, встреч, впечатлений разнообразных, – и надежду, наивную, робкую, наконец-то обильных луж: вдруг не высохнут никогда на здешней глинистой почве?
Атаки жаждущих крови человеческой комаров, тогда, в середине самой крылатых шестидесятых, ещё хорошее, всюду, на каждом шагу, вино, деньги, пускай и скромные, но всё-таки что-то да значившие тогда, с которыми просто и легко было нам расставаться, знакомых приветливых девушек, море после дождя?
Помнишь Ялту с её Испанией галерей, балконов, решёток и внезапных, как восклицания изумлённые, поворотов?
Помнишь закрывшие с севера светлый город рослые горы, хранящий тепло «воротник» на горле изнеженном юга?
Помнишь ночное купание, брезентовую палатку, приткнувшуюся так по-свойски, надолго, почти навсегда, под ветвями дикой маслины, словно пройдут немалые годы, покуда спохватятся наконец и её уберут?
Её свернут в неподатливый клубок, поплотнее скатают, понесут на плечах, куда-то, насовсем, видать, увезут.
Их много было, таких, приют всем дававших, палаток.
Море.
Зачем тебе надо, разом, незамедлительно, всколыхнуть эту сонную гладь, задеть эту плавкую твердь, закипающую смолою, когда ты и так – море?
Море.
Грот. Корабль вдалеке. Сон во сне. Следы на песке. Берег, вымытый добела. Запрокинутая скала.
Загорелые ноги. Взгляды сквозь ресницы густые. Август.







