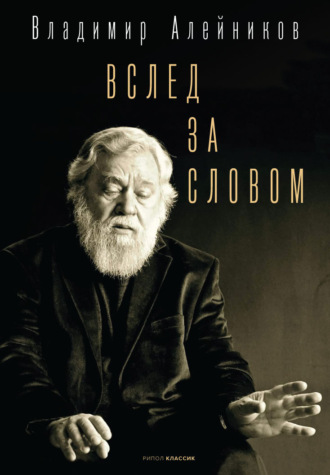
Владимир Алейников
Вслед за словом
Прорубили – в Европу окно.
И – в России немцев полно.
Прижились. Обрусели – вновь.
Петербуржцы. И – вся любовь.
Предки Андрея какие-то, кажется, по морской части служили. Точно не помню сейчас. У него лучше вы сами спросите.
Его мать, незабвенная Ольга Алексеевна, мне говорила:
– Андрей, уже с малых лет, знал, что будет писателем. Если спрашивали его, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал он тут же: «Писателем!» И – сами видите – стал.
(От корня идите, граждане любезные, лишь от корня. Спрашивайте. Отвечаю. Отвечайте. Сызнова спрашиваю. Отвечаю – всем тем, что есть у меня, у вас, и у всех. Всем, что есть. Что было. Что будет. Всем. Что есть. У меня. Всегда. Где бы ни был я. Что бы ни делал. Как бы чем-нибудь я ни мучился. Как бы, выжив и встав, ни радовался. Что бы там, на воле, ни пел. С кем бы там, на пути, ни общался. И когда бы в глуши ни жил. В корень смотрите. Помните. В корень. Идите от корня.
И ночь. И день. И весна. И утро. И вечер. И осень. И зима. И свеча. И лампа. И лето. И вздох. И взгляд.
Созвездья седые. Струны. Глухие, в пустыне, луны. Лихие, в тиши, кануны. Каноны. Вперёд. Назад.
Прорывы в пространство. Знаки. В степи, за холмами, злаки. Не дремлющие собаки. Сады. Пруды. Сторожа.
Сквозь время. Сквозь темень. Звуки. Мгновенья. Забвенье. Муки. Прозренье. Синица в руки. Журавль. Остриё ножа.
И ржавь. И наждачный блеск. И скорость, вместо корысти. Приязнь, вопреки боязни. Признанье, после болезни. Призванье. Переживанье. Желанье. Имён склоненье. Всех звеньев цепи спряженье. Роенье. Соединенье. Струенье. Сквозь расстоянье. Горенье. Сквозь расставанье. До встречи. Вблизи. Вдали. До неба. И до земли. Сквозь ветер. Сквозь век. Сквозь речь. Куда бы ещё увлечь. Туда, где словам просторней. Сквозь корни. В корень. От корня.)
Битов с Ингой довольно часто, чаще некуда, так скажу я, приезжали, вдвоём и порознь, как уж выйдет у них, в Москву.
Литературные, нужные, дела – и общение, важное, для них, и для всех остальных, – всё было именно здесь.
С ними виделись мы постоянно.
Появившись в столице, они звонили нам. Договаривались о встрече очередной. Мы куда-нибудь к ним приезжали.
Не обходилось без выпивки.
Выпивал Андрей в годы прежние, сколько помню его, всегда.
И не просто, как многие люди, выпивал, от случая к случаю, если повод был подходящий, далеко не всегда, – но и пил.
Впрочем, это дело хозяйское.
Значит, было это ему, почему-то, необходимо.
Наподобие пищи, требовалось.
Помогало держаться уверенно?
Быть смелее? Мало ли что!
Все когда-то мы – выпивали.
(Это нынче я так давно вообще ничего не пью, что начал подзабывать, сколько именно лет это длится.
И вкус питья позабыл давным-давно. И последствия. И похмельные состояния. Всё, что связано было с питьём.)
Выпивали когда-то – все.
Это было – в порядке вещей.
Это был один, просто-напросто, из компонентов общения.
Так скажу я. И это – правда.
Правда – с привкусом алкоголя.
Но – куда от неё деваться?
Вдосталь воли в ней, вдосталь – боли.
Не желает она забываться.
Предостаточно в ней – страданий.
И с избытком – горьких прозрений.
И довольно ли в ней оправданий?
Ну, хотя бы – новых творений?
Разбираться не стану. Поздно.
Всё, что было – временем скрыто.
Потому-то и смотрит грозно.
И – не ищет у нас защиты.
И не хочет, чтоб мы – вздыхали.
Мол, могли бы жить по-другому.
Правда – с привкусом нашей печали.
В ясном небе – подобная грому.
Правда – наша. С ней нету сладу.
И пощады в ней нет, ни йоты.
И бежать от неё – не надо.
Всё понятно в ней. С первой ноты.
Как в мелодии – той, далёкой.
В чистой музыке лет минувших.
Полнозвучной и ясноокой.
Поминающей – всех уснувших.
Продлевающей – песни наши.
И врачующей – дух болящий.
Наполняющей – наши чаши.
Встречей радуя предстоящей.
В Москве Битов с Ингой частенько водили меня с Наташей Кутузовой по своим знакомым, которых было, как и друзей-приятелей, мнимых и настоящих, у молодых, талантливых петербуржцев – хоть отбавляй.
Помню вечные передвижения, торопливые перемещения, туда и сюда, по городу, вечерами, а то и ночами, разумеется – на такси.
Помню, как настежь распахивались двери – и на пороге появлялись мгновенно радостные хозяева, несколько взвинченные, восклицали что-то бравурное вразнобой, приглашали войти.
А там, куда мы приехали вчетвером, – и стол наготове, и, само собою, питьё.
Все давно уже навеселе.
И, конечно, просят меня почитать им стихи. Обязательно. И желательно – прямо сейчас.
Вот уж люди! Вынь да положь.
Отказать – неловко. Проверено. Не поймут. Ещё и обидятся.
И откуда такая любовь, повсеместная, право, – к поэзии?
Но любили стихи – всерьёз.
Время было тогда – орфическим.
И ценил я это умение – понимать поэзию – с голоса.
Не с листа, как теперь, но – с голоса.
И опять приходилось читать.
Было чтение это – искусством.
Те, кто помнят, – небось, подтвердят.
Я читал – и меня действительно все, кто были в квартире, – слушали. Ещё как! Действительно – слышали. И действительно – понимали.
Понимали – в процессе чтения моего. Понимали – с голоса.
Голос – ключ к минувшей эпохе.
Голос – клич. А может быть – плач.
Голос – выход из лабиринта или, может, из катакомб в темноте бесчасья – на свет.
На вопросы души – ответ.
Я читал – и каждое слово близко к сердцу людьми принималось.
Это чувствовал я. И знал, что стихи мои – им нужны.
Я читал – как пел. Словно музыку создавал – и она звучала, здесь, для всех, посреди всеобщей, чуткой, бережной тишины.
А потом – разговоры всякие, похвалы, благодарные отзывы и восторги, порой неумеренные, от которых, тут же смущаясь, я не знал, куда мне деваться.
Только искренность в этом – была.
Неизменная. Несомненная.
И отзывчивость в этом – была.
Долгожданная. Драгоценная.
Та, которой вовек не прерваться.
В одной из подобных квартир, где-то в центре столицы, в доме, с виду старом, стоящем отдельно, в стороне от других строений, бывшем, видимо, просто флигелем, после чтения моего хозяйка, полная, рыхлая, крупная, вся уж очень богемная, из таких, что со всеми – по-свойски, вскочила с места – и, налетев на меня, принялась обнимать, целовать, – и я помаленьку пятился от неё, а она – наступала, надвигалась всем корпусом, шла, как таран, на меня, и с каждым шумным шагом своим, и с каждым всплеском белых, пухлых, мясистых, унизанных кольцами рук всё оглядывалась на Андрея, повторяя одно и то же:
– Андрей! Ну, спасибо, Андрей! Вот кого ты привёл ко мне! Володю привёл! Ах, Володя! Есенин! Ну прямо Есенин! Ах, люблю! Хорошо! Замечательно! Ах, Володенька! Милый! Хороший! Какой молодой! Как Есенин! Золотые, смотрите-ка, волосы! Ну, Володя, спасибо! Люблю!
Я не знал уже, как мне быть и куда поскорее спрятаться.
От такого напора – действительно сразу спрячешься. Но куда?
Ничего себе заявления!
Да нашла ещё, сравнивать с кем, ни с того ни с сего, – с Есениным!
Уж чего-чего, а вот этого я просто терпеть не мог.
Первое, что пришло ей в голову, то, небось, в порыве своём и выпалила.
А тут ещё – возраст мой. Молодость. И стихи. И чуб мой, отчасти кудрявый, золотистый, светлый. И прочее.
Выпитое хозяйкой вино, в немалом количестве, в течение дня, и вечера, и чтения, например.
Не больно-то было приятно мне подобные излияния, даже искренние, не спорю, но чрезмерно бурные, слышать.
Я поглядывал вкось на Битова – что за чушь, мол, что за дела?
Но в ответ он лишь пожимал, театрально этак, плечами, да руками всё разводил, широко, с каждым разом шире, – что же делать, мол? Знай, терпи. Принимай всё, как есть. Смирись. Видишь – любит народ поэзию. И поэтов. Особенно – дамы.
Приходилось – и вправду терпеть.
И вино мне – в подобных случаях – пусть на время, да помогало.
Только некий осадок всё-таки, горьковатый, – от вечеров, сходных с этим, с полубогемной, полупьяной, восторженной публикой, вроде ряженых, закружившейся в карнавальном, и впрямь повальном, не иначе, водовороте, – всё равно в душе оставался.
Битов легко, мне казалось, – и, пожалуй, так всё и было на деле – в шестидесятых годах сходился с людьми.
С московскими, подчеркну. Как с питерскими – не знаю. Но, думаю, без особых затруднений, тоже – легко.
И довольно легко, похоже, находил с ними общий язык.
Но везде и всегда, в любом состоянии, и в любой ситуации, и с любыми собеседниками, собутыльниками, соратниками, приятелями, друзьями, – был сам по себе.
Некоторую дистанцию, между собою – и прочими, кем бы ни были эти прочие, до общенья всегда охочие, а до выпивки так тем более, – умел выдерживать он.
Словно черту незримую в воздухе проводил.
Или стену, прозрачную, вроде бы, невидимую, надёжную, прочную, непроницаемую, меж собой – и другими, запросто, и – привычно, уже – умеючи, как-то разом, вдруг, воздвигал.
И – всё. Закрыт. Защищён.
Там, извне, вблизи, вдалеке, в стороне, – какая-то публика.
Здесь, внутри, за чертой, за стеной, за гранью незримой, – Битов.
Со своими заботами. Многими.
Со своими устоями. Строгими.
Со своими, коль надо, трудами.
Так продолжалось – годами.
Об известности громкой своей, о широкой своей популярности – в Москве, у богемной братии, где возможным было признание, где формировалось общее, немаловажное, мнение, где складывался, с годами, исподволь, постепенно, всё более укрепляясь и тяготея к легенде, приемлемый всеми образ, – Битов очень заботился.
Он охотно читал желающим услышать его – свою прозу.
Причём, там читал, где и важно, и нужно было, для дела, с прагматизмом немецким, отчасти, почему бы и нет, почитать.
Это – всегда срабатывало. Безотказно. Его положение, с каждым действом таким, укреплялось.
Это – исправно работало. На образ, прежде всего.
В самом деле, смотрите-ка, он, вроде бы и печатающийся, вроде бы официальный, так уж вышло сразу, прозаик, – оказывался на поверку вовсе не преуспевшим, не таким уж, везде и всюду, где пожелает, печатающимся, вовсе и не таким, вот ведь как оно повернулось и открылось, официальным, как некоторым казалось.
Выяснялось, тут же, на публике, ну а проще – среди своих, что у него, публикующегося автора, вы представьте только, в столе имеется внушительное количество серьёзнейших сочинений, доселе неопубликованных, и даже таких, которые, по вполне понятным причинам, вряд ли могут быть напечатаны в ближайшее время, и даже, по причинам слишком весомым, вряд ли будут в нашей стране изданы вообще.
Упоминались – таинственные «Записки из-за угла».
Постоянно, в разных домах, говорилось – о том, что он усиленно, напряжённо работает над романом.
Особенным. Небывалым.
Произносилось название, шёпотом, – «Пушкинский дом».
Потом, в свой новый приезд, Андрей привозил, бывало, в Москву главу из романа.
Оповещал знакомых: намерен, мол, почитать.
Устраивалось немедленно чтение. Для своих. В узком кругу, понятно. Без особого афиширования.
Например, на Садово-Каретной, у той же Алёны Басиловой.
Собирались вечером – избранные.
Романиста – внимательно слушали.
Читал Андрей – замечательно.
Потом – похвалы, восторги.
Общие. Обязательные.
И догадки вдруг – о подтексте.
О концепции. О структуре.
О приёмах. О метафизике.
О втором или третьем плане.
О героях. И о сюжете.
И – гадания: что же – дальше?
И так вот – глава за главой – выслушал я когда-то почти весь его новый роман, знаменитый «Пушкинский дом».
Такие, на людях, чтения – реклама очень хорошая.
Такие, вовремя, чтения – мостики своеобразные, протянутые ко всем – тогдашним, давнишним, – нам, к богеме, не издающейся, не имеющей отношения никакого к официалыцине, полуподпольной, сытой по горло запретами, братии, – мостики, по которым, при некотором желании, вполне можно было к нам, в наш вольный стан, перейти, – и тем самым стиралась грань очевидная, и тем самым устанавливалось, как будто бы, даже некое равенство, или же подобие такового, – мол, все мы одна команда, если быть объективным, ребята.
В наведении регулярном таких вот мостов Андрей большим был специалистом.
К тому же, часто читая свою прозу, он – приучал к себе московскую публику.
Везде к нему – привыкали.
И все – привыкли, в итоге.
И у Алёны Басиловой все считали его – своим.
И у Сапгира его уже считали – своим.
И в доме у Великановых считали – своим. И так далее.
Молодец, Андрей! – ничего по-другому о нём не скажешь.
Ведь был он, вот что существенно, к тому же, по-настоящему, и всем это было ясно тогда, ещё и талантлив.
Он учился в шестидесятых – на высших сценарных курсах.
Было модно тогда и престижно – учиться на этих курсах.
Приезжали в Москву – из провинции.
По два года жили – в Москве.
Получали исправно стипендию.
Получали – на время – жильё.
Жили здесь – в своё удовольствие.
Фильмы лучшие все смотрели.
С кем хотели, с тем и общались.
К тайнам творческим приобщались.
Ощущали себя уж ежели не избранниками судьбы, то, по крайней мере, удачниками – пусть, согласны, и ненадолго, – но мало ли что, в любой момент, и, тем более, в будущем, при условии нужных связей, может произойти.
Потом, что правда, то правда, отучившись, набравшись опыта и умения, надо было что-то этакое, особенное, современное, своевременное, интересное, написать.
Сценарий. Оригинальный.
С новизною авторской. Свой.
И – пристроить его, желательно.
(Это было бы замечательно!)
Только это – не к спеху, не сразу.
Это – позже, это – потом.
А пока что – сплошное общение.
И – гульба. И – знакомства. Полезные.
А пока что – свободная жизнь.
Жизнь – азартная, жизнь – богемная.
И не где-нибудь – там, в провинции.
Здесь, в столице. Именно здесь.
На высших сценарных курсах учился, весьма старательно, украинский поэт Иван Драч, основатель будущий «Руха», идеолог, древнего духа почитатель, борец со стажем, широко известный политик, депутат, государственный деятель, а тогда сидевший, по слухам, сиднем, в общежитейской комнате, в окружении москалей, инородцев и всяких прочих, без особых примет, субъектов, с чемоданом своих, авангардных, но с традициями народными, что должны были стать свободными от российских оков, стихов.
Здесь учился отменно хороший армянский писатель Грант Матевосян, печальный, задумчивый, неразговорчивый, весь в своём находящийся мире, там, в горах, вдали от Москвы, тихим творчеством ввысь ведомый от соблазнов земных, человек.
Здесь училась, тогда же, Роза Хуснутдинова. Где ты, проза? Вся – поэзия, тайна, грёза, возникала она – вдали.
Появлялась – и струны пели, и луна в ледяной купели отражалась, и к дальней цели всех капризы её вели.
Стройная, нежная, бледная, восточная странная женщина, такая – одна-единственная, пленительная, таинственная, ходила она в диковинных нарядах, с обритой наголо, завёрнутой в лёгкие, мягкие, воздушные, образующие то ли подобие некое тюрбана, то ли какой-то сказочный, не иначе, убор головной Шемаханской царицы, своей точёной, сидящей на лебединой, гибкой и длинной, шее, благоуханной, туманной, высоко – средь богемы – поднятой, лёгкой, птичьей, змеиной головкой, держа на весу лицо напудренное, с губами коралловыми, с очами бездонными, тёмными, томными, искоса, исподволь, нехотя горящими жарким огнём.
Про неё тогда говорили, почему-то – всегда вполголоса, или даже – чуть слышно, шёпотом:
– Роза очень, очень талантлива!
Но никто из её писаний ничего никогда не читал.
Были – слухи об этом. Домыслы.
Про талантливость – верили на слово.
Дева-Роза была – загадкой.
Дива-Роза была – звездой.
Здесь, на высших сценарных курсах.
Здесь учился – Резо Габриадзе.
Вспоминаю, как в ЦДЛ, в шумном, дымном кафе, заполненном разномастными посетителями, в самом дальнем углу, за столиком, до предела забитым бутылками, он сидел в одиночестве, пьяный, уронив тяжёлую голову на свои окрещённые руки.
Мы с Андреем к нему подошли.
Поздоровались. Нет ответа!
Мы зовём его. Понапрасну!
Что стряслось? Никого не слышит, ничего не видит Резо.
Битов тронул его за плечо.
Резо Габриадзе очнулся, медленно поднял на нас опухшее, словно обвисшее вниз, неестественное бледное, отрешённое от всего, что творилось вокруг, в кафе, в этом шуме, и гаме, и дыме, вдохновенное – внутренней, видимо, никому не заметной, работой, существующее отдельно от людей, большое лицо, посмотрел на меня и на Битова очень светлыми, утомлёнными, с бесконечной тоской по родной Имеретии, чуть мигающими, ну а может быть, и мерцающими, немотою своей говорящими больше, чем любыми словами, по-младенчески робкими, кроткими и по-старчески проницательными, с умудрённой слезою, глазами, – и сказал – словно выдохнул вдруг:
– Я был в России. Грачи кричали. Грачи кричали. Зачем? Зачем?..
И – вновь уронил свою голову вниз, на окрещённые руки.
Слова его были вроде бы знакомы мне. Из Бальмонта?
Сам он был в столице – залётной, по гнезду тоскующей птицей.
Вскоре стал Резо – знаменит.
Это были – сценарные курсы.
(Это вам не из Гоголя – бурса,
Бульба с люлькой, панночка, Вий.)
Курсы – высшие. С перспективой.
И солидной – в кармане – ксивой.
Путь в кино – как бильярдный кий.
Прям и точен: удар по шару.
В лузу! Что же, подбавим жару.
Путь в кино – счастливый билет.
Кто-то вытянул – вот удача!
Только так – и никак иначе.
Впереди – череда побед.
Здесь училась – Инга Петкевич.
Ничего не знаю – писала ли что-нибудь она – для кино.
Здесь учился – Андрей Битов.
Он сценарии – написал. И по ним – поставили фильмы. Сонмы звёзд и комет хвостатых.
След невольный – в людской молве.
Это было – в шестидесятых.
Посреди Союза. В Москве.
Помню, как-то я Инге с Андреем прочитал – наизусть, конечно, – у Алёны Басиловой, вечером, в час, когда уже выпито было всё, до капли последней, спиртное, и народ по домам расходился восвояси отсюда, лишь мы оставались, и всё говорили о высоком, и кофе пили, и, за тихой беседой, курили, и волокна дымные плыли к потолку, – стихи Кублайовского.
Ранние. И, по-моему, симпатичные. Со своим, юношеским, с наивной, надтреснутой ноткою, голосом, и со своим, какое уж было тогда, лицом.
Неизданные доселе. Старательно позабытые Кубом, в угоду поздним, трезвым его писаниям.
Реакция Битова с Ингой оказалась быстрой и жёсткой.
Оба сразу же заявили, не сговариваясь:
– Нет, не то!..
И тогда я Инге с Андреем прочитал – наизусть, естественно, по привычке своей давнишней, – (и теперешней, признаюсь, только реже это с годами, что ж поделать, со мной бывает, хоть привычка сама жива, сохранилась), – под настроение, в тишине, которая вдруг воцарилась в Алёниной комнате, напряжённой какой-то, праздничной, вдохновенной, – стихи Губанова.
Реакция Битова с Ингой была мгновенной, восторженной.
Оба тут же воскликнули:
– Здорово!
Пояснив:
– А вот это – то!..
Почему-то заволновались:
– Лёня! Лёнечка! Молодец!
Обратились – вдвоём – к Алёне:
– Он когда придёт, наконец?
– Он в запое, – сказала Алёна. – Протрезвеет – и сам придёт. Отовсюду, где пьёт с друзьями, он дорогу сюда найдёт.
Покачал головою Битов:
– Повидаться хочу я с ним.
Рыжей гривой тряхнула Инга:
– Он судьбою своей храним.
И достал из сумки бутылку, им припрятанную, Андрей:
– За Губанова, за поэта, надо выпить – и поскорей!
Вот и выпили мы за Лёню.
Ветерок залетел в окно.
Стало грустно тогда Алёне.
Горьковатым было вино.
Попрощались мы с нею. Встали.
Вышли в мир, чей был чуток сон.
В ночь, где люди чего-то ждали.
В речь, живущую вне времён…
Однажды в чьей-то квартире мы, как всегда, выпивали.
Я, как и всегда, по традиции тогдашней, читал стихи.
Андрей, запомнив их с голоса, повторял то и дело запавшие в душу ему, глубоко и надолго, видимо, строки:
– Но раскроется роза, и в ней – золотая пчела удивления.
Он ходил, вдоль стола, вдоль стен, – и эти слова твердил.
Стихи были – новые. Много тогда я работал. Не только ведь с Битовым выпивал. Вырастала – новая книга.
Почему-то спросил я Битова:
– Андрей, а сколько ты, в общей сложности, начиная с самых первых вещей, по объёму, прозы своей написал?
Битов остановился. Поправил очки. Хлебнул из фужера. Немного подумал.
Покосился на книжный шкаф, где на полках, в полной сохранности, аккуратнейшими рядами, стояли, одно за другим, собрания сочинений самых разных писателей.
Сказал:
– Ну, если прикинуть, как у этих вот, классиков, – тут он показал на книги в шкафу, – то я тома три написал.
Но взгляд его, устремлённый на собрания сочинений, чужие, был – это бросилось в глаза мне в ту же секунду, – красноречиво-ревнив.
Наверное, и ему хотелось, конечно, хотелось, даже очень хотелось, и это понятно ведь, написать – со временем, разумеется – своё, вот именно, собственное, из внушительного числа солидных томов состоящее, собрание сочинений.
Похвальное, в общем-то, правильное желание, для писателя.
Дай-то Бог ему сил для этого.
И упорства. И воли. И времени.
Так рассудил я тогда.
Не припомню, чтоб где-нибудь там, где всегда читали стихи или прозу, где пили чай или кофе, а то и покрепче, позабористее, напитки, вроде водки или вина, в основном, где курили – все, говорили, галдели – все, обсуждали – решительно всё, что годится для обсуждений, рассуждали порой – о высоком, били – чашки, морды, стаканы, жили – странными новостями и делами среды богемной, пели – часто, с душой, под гитару, знали – всё, обо всех, обо всём, что на белом свете творится, ночью, днём ли, здесь или там, были рады поздним гостям, похмелялись, друзьям звонили и знакомым, куда-то плыли по течению или вспять, чтобы жизнь по новой начать, – слышал я Ингу Петкевич.
Её взрослая проза, неизданная, о которой все говорили, что она интересна, талантлива, необычна, свежа, – оставалась, год за годом, довольно долго, для меня полнейшей загадкой.
Но детскую книжку её читал я – и книжка эта мне очень, помню, понравилась.
Инга была ещё и актрисой. Уж точно – яркой.
Недаром снималась в кино.
Пусть в эпизодах. Изредка.
Пусть даже – в массовках. Неважно.
Важно – что в жизни была восхитительно артистична.
Важно – что образ её вспыхивал в шестидесятых – рыжим огнём – на снегу, пламенем жарким – в дождях.
Инга была – особенная.
Инга была – солнечная.
Белая. Рыжая. Жаркая.
Смех её – ржание – жарким был.
Но была в ней порою – прохлада.
И – таимая ранее грусть.
Петербургская дама. Привада.
Европеянка. Леди Годива.
Словно лёгкая мгла – над Невою.
Словно рыжая прядь – на снегу.
Любопытная пара была – петербургские гости в Москве – иностранцы почти, люди светские и богемные – Инга с Андреем.
Инга Андрея – не дополняла.
Инга Андрея – лишь укрупняла.
Отдаляла порой – от себя.
Отделяла его – любя.
И тем самым – вновь укрепляла.
Над обыденным всем – возвышала.
Инга была – сама по себе. Вольная птица. Львица.
В храме ночей, в драме речей – пленница. И – жрица.
Мерцающий жар зрачка.
Припухшие губы: роза.
Плечо. Изгиб локотка.
И разве всё это – проза?
Волос – в огне – завитки.
В руке – сигаретка. Чары?
Пожалуй. И в них – силки.
Для певчего – свыше – дара.
Квартира занятная – в Питере, на Невском. Вблизи – Московский вокзал. Квартира – шарада. Но, может быть, так и надо? И в этом-то – вся отрада? И нет в ней – лишних примет?
Две комнаты. Нет здесь – быта. Раздоры и страсти – скрыты. Подобье гнезда – не свито. Есть – кофе. А хлеба – нет.
Есть – стены, почти пустые. Обои. Две-три картинки. Ворошилов – подаренный мною. Кулаков – подарок от автора – загогулины всякие, вроде иероглифов, с вывертом, – Битову.
Есть – высокие, вроде бы, – окна.
Есть – высокие, вроде бы, – двери.
Потолок – похоже, высокий.
Пол – как двор: просторный, пустой.
Две-три пары туфель в углу.
Три-четыре чашки. Тарелка.
Блюдце. Пепельница. Кофемолка.
Стопки книг – их не сразу заметишь.
Рюмки. Ложки. Две-три бутылки.
Сигареты. Часы. Очки.
Есть – письменный стол-корабль.
Огромный. Фрегат на рейде.
За столом – руки вытянув – Битов.
Над столом, за спиной Андрея, на стене, над его головой, – фотография: человек, пожилой, а в руке – сачок, – ловит бабочек? – что за блажь? – взгляд – лукавый, умный, – в упор, и – насквозь, и – навек! – Набоков.
…Петербургские сумерки. Вечер.
Стол-фрегат. И на нём – капитан.
Петербургский писатель. Битов.
И над ним – в небесах – Набоков.
И за ним – за домами – Нева.
За Невою – залив. И – море.
Незабвенные времена.
Колыханье шестидесятых.
Полыханье Ингиной гривы.
Битов. Проза его. Глаза.
Стол-фрегат. Перед ним – стихия.
Петербургская ночь. И – речь.
Значит, стоили встречи – свеч?
Ночь. Набоков. Очки. Сачок.
Две слезинки – в ночи – со щёк.
Две ли? Больше ли? Так, две-три.
Не заметили? Что ж, сотри.
Что же стало, Андрей, судьбой?
Будь – собою. И – Бог с тобой!..
Как-то исподволь, незаметно, я привык и к тому, что есть он, что присутствует в мире он, и к тому, что пишет он прозу, говорит – всегда интересно, колоритен, оригинален, обаятелен, пьян порой или чуть во хмелю – с друзьями, но в делах – прагматичен, трезв, – и во всём, что делает он, есть, похоже, неповторимость, Божья искра – с людскою волей, что-то свыше – и слишком земное, почва твёрдая под ногами, над которой – воздуха знак.
Битов – Огненный Бык. Особенный. Он родился – в тридцать седьмом, под созвездием Близнецов, двадцать седьмого мая.
В этот день, в шестьдесят втором, в Кривом Роге, я написал:
– Тучи ушли на запад, бок земле холодя, – только остался запах спелых капель дождя.
Мне было – шестнадцать лет. Писал я тогда, стихи и прозу свою, – запоем.
В этот день, в восемьдесят третьем, умерла моя любимая бабушка, баба Поля, мамина мама, Пелагея Васильевна Железнова, урождённая Кутузова.
Бабушка моя, с её чутьём и огромным ведическим опытом, поняла Андрея – мгновенно, и потом, позднее, порой очень верно всегда мне о нём говорила.
В этот же день, и тоже в тридцать седьмом, родился мой криворожский друг Рудик Кан.
В этот день, в шестьдесят пятом, перед моим отъездом на Тамань, в Москве, Артур Владимирович Фонвизин, слушая, как я читаю стихи, написал мой портрет.
В этот день, давным-давно, в самом начале шестидесятых, по-настоящему, навсегда, ощутил я себя – поэтом.
Вот какой это день, когда появился на свет Андрей. Вот какой это день. Майский. Под созвездием Близнецов.
Чумаки – в Крым, за солью, – веками ездили на волах. В образе быка громовержец Зевс на спине могучей своей нёс по волнам Европу. Быки – всегда были рядом с людьми.
Битова – отовсюду – всегда вывозил на себе – огненный Бык. Огненный. Тотем его. Фирменный знак.
Такой же тотем, как у Битова, и такой же знак зодиака был – почему-то вспомнилось это – и у Волошина.
Совпадений и параллелей – вдосталь. Все – далеко не случайны.
Что за мистика? – скажут. Наша. Наши судьбы и наши тайны.
Битов. Огненный Бык.
Было ли в нём – демоническое нечто? Не было вовсе.
Это – совсем другие категории. Не для того, кто слишком привязан к земле.
Но было в нём – некое постоянное попадание в десятку, неизвестно каким способом, было – как в картах – вечное везение, неизменное двадцать одно, – было в нём – как бы это сказать поточнее? – что-то такое, сфокусированное на нём, откуда-то, – но откуда? – остаётся только гадать, – будто постоянно был он в направленном на него, световом, хоть и неярком, не бросающемся в глаза, не ослепительном, не магнетически властном, наоборот, неброском, однако – не гаснущем, не исчезающем, наоборот – устойчивом, чётком луче – непонятно из какого фонаря, – будто где-то там, и поди гадай – где, неизвестно какие существа – поставили на него, и наблюдают за ним, и помогают ему постоянно, и заботятся о том, чтобы он всё время был в выигрыше, был удачлив, был – на виду, был – в какой-то мере эталоном современного человека, писателя, мужика, с машиной, квартирой, дачей, изданиями, известностью отечественной и заграничной, со своим – отработанным, надо заметить, и не в смысле создания образа, но – проще, определённее, отработанным – как на работе, в институте ли, на производстве ли, всё равно, усердно, по-честному, с бесконечным старанием, имиджем, как сейчас говорят, со своим, привычно солирующим, но никак уж не в хоре, голосом, со своим, давно путешествующим, бодро движущимся в пространстве, в жёстких рамках – ему отведённого, на игру его всю, по крупной, на его пребывание в мире, или – существование в яви, без участия прави в нём, без возможного, в будущем, выхода – в измерения новые и в другие миры – дорогого земного времени.
Дорогого. Ведь в нём – успех. Что же! Этимология этого слова – предельно ясна. От другого слова – успеть. Актуально это, не правда ли? Современно, и даже – модно: здесь, в юдоли, – взять да успеть.
Всё – успеть. Получить – при жизни. Всё, что можно. И даже – больше. Непременно – успеть. А потом? Ах, да мало ли что – потом! Важно всё получить – сейчас. Поскорее. Сию секунду.
Можно – петь. А можно – успеть. Можно – пить. Но только – не спать. Только – в путь. Успевать. Повсюду. Что-то – можно стерпеть. Но – успеть. И – своё наверстать. И – встать. Меж других. Современным героем.
Надо всем, что мешало, – встать.
Всё – успеть. И – своё сказать.
Слово? Именно слово. Как?
Здесь поможет – воздуха знак.
Так сказать, чтоб – не в плач, не в крик.
Здесь поможет – Огненный Бык.
Помогают. Успеть – скорей.
Не горюй о былом, Андрей!
Что за силы? Откуда – весть?
Света – мало. Темноты – есть.
Что за вера? – Во что? В кого?
Чьё же – всё-таки – торжество?
Чья же – всё-таки – здесь игра?
Чьё-то завтра – его вчера.
Чьи же – всё-таки – свечи здесь?
Завтра – поздно уж. Нынче. Днесь.
Так, в пределах земных, – вперёд.
Что-то оторопь вдруг берёт.
Но задерживаться – нельзя.
Где-то в мире – его стезя.
Или, может быть, – вздох о ней?
Где-то на людях – в пену дней.
Как в волну – головой. Нырок.
И – наверх. В суету дорог.
В темноту – как на свет. Не вдруг.
Воздух – знак. На земле же – круг.
В круге дороги – век и миг.
В путь – по кругу. Огненный Бык.
Был ли способен он, иногда, хотя бы, а может быть, и довольно часто, поскольку жизнь сама призывала к этому, и не раз, и не два, но многажды, на поступки? Да, разумеется.
Способен ли был – на подвиги? Вряд ли. Ведь здесь нужны – самоотверженность, жертвенность, нешуточное горение.
Андрей был всё-таки слишком уж замкнут на всём, что было в нём собственным, личным, удельным, родным, на себе самом, чтобы, во имя подвига, творческого, допустим, пожертвовать вдруг земным своим временем – и движением своим, путешествием, долгим, непрерывным, своим – на север, на юг, на восток и на запад – в пределах земного круга.
Был ли он мне настоящим, добрым, хорошим другом – хотя бы в шестидесятых? Думаю – всё-таки был.
Потом, позднее, с годами, – было уже не то. Просто – я это видел, – срабатывала инерция.
Но какое-то неизменное, долговечное изумление в душе его – по отношению ко мне, и к моим стихам, и ко всем остальным трудам, ко всему, что со мною связано, – полагаю, доселе осталось.
Да, осталось. Что живо, то живо.
Был ли он способен, хоть изредка, хоть единственный раз, на предательство?







