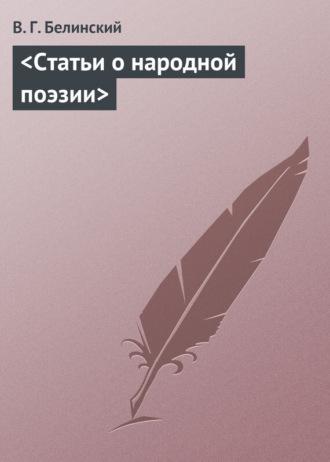
В. Г. Белинский
Статьи о народной поэзии
Дети бесови кликом поля прегородиша, а храбрые русицы прегородиша чрвленными щиты.
Перевод: «Бесовы дети оградили стан свой криком, а храбрые россияне багряными щитами». Шишков: «Нечестивые чада устремляются на них с воплем: храбрые россы противопоставляют им щиты свои». В последнем переводе есть смысл; но где ж он в подлиннике?{77}
Бориса же Вячеславлича слава на суд приведе; и на канину зелену паполому постла, за обиду Олгову храбра и млада князя.
Перевод: «Бориса же Вячеславича слава на суд привела; он положен (?) на конскую попону зеленую за обиду молодого храброго князя Олега». Шишков совсем выпустил это место, вероятно, по невозможности объяснить, зачем именно клали князя на конскую попону…{78}
С тоя же Каялы Святоплъкъ повелея отца своего междю угорьскими иноходцы к святей Софии к Киеву.
В книге г. Сахарова в этом месте слово «повелея» заменено словами «повезе я».
Перевод: «С той же Каялы вел Святополк войска отца своего сквозь венгерскую конницу в Киев ко святой Софии». Шишков совсем выпустил это место, и не мудрено: в нем нет и тени даже грамматического смысла: что такое «повелея»? – тут нет смыслу. Что такое «повезе я»? – То же самое – бессмыслица. О войске и помину нет в тексте. Притом, неужели «угорьскии иноходци» – точно венгерская конница, кавалерия?{79}
Тогда по русской земли ретко ратаеве кикахуть.
Перевод: «И в русской земле редко веселие земледельцев раздавалось» – это перевод наудачу: что значит слово «кикахуть» и было ли такое слово?{80}
Убуди жирня времена.
Перевод: «Разбудила времена тяжкие». Почему же здесь Слово «жирня» переведено словом «тяжкие»?{81}
За ним кликну Карна и Жля, поскочи по русской земли, смагу мычючи в пламяне розе.
Перевод: «Воскликнули тогда Карна и Жля и, прискакав в землю русскую, стали томить и огнем и мечом». Опять не перевод, а произвольное толкование!{82}
Чръпахуть ми синее вино с трудом смешено.
В переводе сказано «с ядом смешанное»; а где же доказательства, что здесь труд значит яд?{83}
Всю нощь с вечера босуви врани взграяху.
Что такое «босуви»?{84}
Уже тресну нужда на волю.
Перевод: «Уже насилие восстало на вольность»{85}.
А уже не вижду власти сильнаго и богатаго и много вой брата моего Ярослава с черниговскими былями (?), с могуты (?), и с татраны (?), и с шельбиры (?), и с топчакы (?), и с ревугы (?), и с ольберы (?). Тии бо бес щитов с засапожникы кликом плъкы побеждают, звонячи в прадеднюю славу.
Не приводим перевода: он так же ясен, как и текст{86}.
Великому хръсови влъком путь прерыскаше.
Об этой фразе сам Шишков сказал: «Невразумительно!»{87}
Игорь спит, Игорь бдит.
Перевод: «Игорь лежит, Игорь не спит»…{88}
Можно б было и еще столько же привести необъяснимых темнот и бессмыслиц; но довольно и этих, чтоб читатели могли судить, до какой степени можно наслаждаться в целом «Словом о полку Игореве». Тем не менее все темноты и бессмыслицы мы приписываем не «Слову», а рукописи и ее писцу, ибо неестественно допустить бессмыслицы в пьесе, отличающейся смыслом в целом и поэтическими красотами в частностях. Чтоб произнести суд над поэтическим достоинством этой поэмы, нам должно изложить ее содержание.
Автор «Слова» начинает обращением к слушателям, обещая им песню по «былинам своего времени, а не по замышлению Бояню: Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы». Это указание на Бонна очень любопытно: значит, был человек, прославившийся песнями. Наши литераторы и пииты доброго старого времени (которое, впрочем, очень недавно было еще новым) сделали из Бонна нарицательное имя вроде минстреля, трувера, трубадура, барда и, обрадовавшись этому, начали прославлять процветание богатой русской литературы до XII века. Но из «Слова» ясно видно, что Боян имя собственное, принадлежавшее одному лицу, вероятно, жившему во времена язычества или вскоре по его падении, которое было вместе и падением поэзии, с тех пор ставшей на Руси бесовскою потехою, «пересыпаньем из пустого в порожнее». Частые обращения певца Игорева к Бонну, – обращения, исполненные энтузиазма и благородных поэтических образов, не допускают никакого сомнения в существовании этого Бонна, «соловья старого времени». Конечно, это не был Гомер своего рода, как думал Шишков{89}, ни даже что-нибудь похожее на творца «Илиады»; но после похвал даровитого автора «Слова» нельзя не сожалеть искренно о том, что время и невежество истребили песни Бонна, который «своя вещиа пръсты на живая струны вскладаше – они же сами князем славу рокотаху».
«Почнем же, братие, повесть сию от старого Владимера до нынешнего Игоря», – говорит певец, – и начинает совсем не с старого Владимира, а прямо с Игоря, «иже истягну умь крепостию своею и поостри сердца своего мужеством, наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрые плъки на землю половецькую за землю русскую». Хочу, сказал он своей дружине, переломить с вами, русици, копье на земле половецкой, хочу либо положить свою голову, либо испить шеломом Дону. Не буря занесла соколов чрез поля широкие – то летят стадами галици[9] к Дону великому: тебе бы воспеть это, внук Велесов, Боян вещий! Кони ржут за Сулою, гремит слава в Киеве; трубы трубят в Новеграде, веют знамена[10] в Путивле; Игорь ждет милого брата Всеволода. И молвил ему буйтур[11] Всеволод: «Един ты брат у меня, един свет светлый, о Игорь! оба мы Святославичи! Седлай ты, брате, своих борзых коней, а мои давно готовы для тебя и стоят оседланы у Курска. А куряне мои в метании стрел искусны, под звуком труб они повиты, концем копья вскормлены, пути им ведомы, овраги знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены; сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы». Тогда Игорь-князь вступил в златое стремя и поехал по чистому полю.
За сим следует темное и нескладное (вследствие искажения текста писцом) описание грозных предвещаний природы. «Орлы клектом сзывают зверей на трупы, лисицы лают на багряные щиты воинов. Дружина Игорева уже за шеломенем. День меркнет, свет зари потухает, мгла покрывает поля, засыпает щекот славий, умолкает говор галичий». Очевидно, что весь этот отрывок, поневоле сокращенный нами, по причине искажения текста, в первобытном подлиннике полон высоких красот поэзии. Сколько можно чувствовать, несмотря на искажение, есть что-то зловещее, фантастическое в изображении грозно настроившейся природы, особенно в этом клекте орлов, сзывающем зверей на кровавый пир, и в лае лисиц на багряные щиты воинов.
Поутру русичи потоптали поганые полки половецкие и, рассыпавшись, словно стрелы, по полю, помчали красных девиц половецких, а с ними злато, и паволоки, и драгие оксамиты; япончицами и кожухами начали мосты мостить по болотам и грязевым местам и всякими узорочьями половецкими. Червленый стяг, белая хоругвь, багряная челка, серебряное древко храброму Святославичу. Дремлет в поле храброе гнездо Олегово – далеко залетело оно; не родилось оно на обиду ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, поганый половчанин!
На другой день, вельми рано, появляется свет кровавой зари, идут с моря черные тучи, хотят закрыть четыре солнца, блещут синими молниями; быть грому великому, литься дождю стрелами с Дону великого; поломаться тут копьям, притупиться тут саблям о шеломы половецкие, на реке Каяле, у Дону великого. Се ветры, внуки Стрибожии, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы; земля звучит, реки мутно текут; мглою поля покрываются; знамена голос дают, половцы идут от Дона и от моря, и ото всех сторон. Русские полки отступили. Яр туре Всеволод! стоишь ты на борони{90}, прыщешь на врагов стрелами, булатными мечами гремишь о шеломы их. Куда ни бросишься ты, туре, золотым шеломом своим посвечивая, там лежат поганые головы половецкие, и поскепаны калеными саблями оварские шеломы от тебя, яр тур Всеволод! Что ему раны, когда забыл он и почести, и жизнь, и город Чернигов, и золотой престол отеческий, и свычаи и обычаи своей милой хоти, прекрасной Глебовны!
(Здесь певец делает отступление, обращаясь к смутам и междоусобиям прежних времен и не находя в них ни одной битвы, которая могла бы сравниться с битвою Игоря и Всеволода с половцами.)
С утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, звучат сабли о шеломы, трещат копья булатные в поле незнаемом, среди земли половецкой. Черная земля под копытами костьми была посеяна, а кровию полита; возросла на ней беда для земли русской. Что мне звенит рано перед зарею? Игорь полки поворачивает: жаль бо ему милого брата Всеволода. Билися день, билися другой: на третий день к полудню пали знамена Игоревы. Тут разлучилися братья на береге быстрой Каялы. Недостало тут вина кровавого; тут и кончили пир храбрые русичи: сватов попоили, да и сами легли за землю русскую. Поникла трава от жалости, и дерево к земле преклонилось от печали.
(Здесь опять следует небольшое отступление, состоящее в жалобах на междоусобия. Все эти отступления особенно интересны как свидетельство, что поэма современна воспетому в ней событию.)
О, далеко залетел ты, сокол, гоня птиц к морю: а Игорева храброго полку уже не воскресити! Тогда взревели Карна и Жля и ринулись в русскую землю с огнем и мечом. Всплакались жены русские, приговаривая: уже нам своих милых лад ни мыслию взмыслити, ни думою вздумати, ни очами узрети; а золота и сребра не возвратити! Взстонал тогда, братие, Киев тугою, а Чернигов напастьми; тоска разлилася и печаль жирна потекла по земле русской; а князи сами на себя крамолу ковали…
(Здесь снова жалобы на междоусобия; воспоминание, как сильны были прежде князья русские, как громили они землю половецкую, как страшен был половцам великий князь киевский Святослав Грозный, отец Игоря и Всеволода.)
Немци и венедици, греци и морава поют славу Святославлю, кают[12] князя Игоря, «иже погрузи жир во дне Каялы, реки половецкий, русского злата насыпаша». Святославу-родителю приснился дурной сон. «В Киеве, на горах, в сию ночь одевали меня (говорит он боярам) черным покровом, на тесовой кровати. Наливали мне синего вина, с трудом смешанного; высыпали мне на лоно из пустых колчанов нечистые раковины с крупным жемчугом и неговали меня; а в моем златоверхом тереме все доски без перекладины[13]. Всю ночь с вечера каркали враны». И отвечали бояре князю: «Печаль одолела ум наш, княже; слетели бо два сокола с золотого престола отеческого поискати града тьмутораканского либо испити шеломом Дону, и тем соколам обрублены крылья саблями нечестивых, и сами они попались в путы железные. Темно стало на третий день: два солнца померкли, оба багряные столбы погасли, а с ними и молодые месяцы – Олег и Святослав – тьмою заволоклися. На реке на Каяле тьма свет покрыла: по русской земле рассыпались половцы, как из леопардова логовища. Раздаются песни красных девиц готских на берегу синего моря; звеня русским золотом, воспевают они время Бусово, лелеют песнь Шароканову[14]. Тогда великий Святослав изронил слово злато, с слезами смешано, и молвил: «О, сыны мои, Игорь и Всеволод! не вовремя вы начали добывать мечами землю половецкую, а себе славы искать. Нечестно ваше одоление, неправедно пролита вами кровь вражеская. Сердца ваши из крепкого булата скованы, а в буести закалены. Того ли ожидал я от вас серебряной седине моей? Уже не вижу я власти сильного и богатого брата моего, Ярослава, и его дружины великой! Они и без щитов, кликом одним врагов побеждали, гремя славою предков. Не говорили они: предстоящую славу сами похитим, а прошедшею с другими поделимся. А диво ли, братие, старому помолодети? Когда сокол в мытех бывает, то высоко гонит птиц и не даст гнезда своего в обиду. Но то горе, что мне князья не в пособие; время все переиначило.
(Непонятно то, что тотчас же следует за сим местом; есть ли это продолжение речи князя Святослава или тут поэт начинает говорить от себя?{91} Все это место состоит в жалобах на «усобицу», как причину настоящих бедствий, и в воззвании к современным князьям, которые, по своему разъединению, уже не в силах подать помощь плененному Игорю. Воззвание начинается с князя Всеволода):
Великий князь Всеволоде! не помыслишь ли ты прилетети издалеча постоять за златой престол отеческий? Ты можешь Волгу раскропить веслами, а Дон шеломами вычерпать. Когда ты был здесь, чага (?) ходила бы{92} по ногате, а кощей по резани[15]. Ты можешь посуху стреляти живыми ше<ре>ширами[16]{93} – удалыми сыновьями Глебовыми. И ты, буй Рюрик и Давыд, не вы ли плавали в крови по шеломы золоченые? Не ваша ли храбрая дружина рыкает подобно волам, израненным саблями калеными в поле незнаемом? Вступите, государи, в стремена златые, за обиду нашего времени, за землю русскую, за раны Игоря, буего Святославича! А ты, Ярослав, осмосмысл{94} галицкий! высоко сидишь ты на своем златокованом престоле, подпер ты горы угорские своими полками железными, заградил ты путь королю, запер ворота к Дунаю, меча бремена (?){95} за облаки, творя суд до Дуная! Гроза твоя по землям течет, отворяешь ты врата киевские, с отчего престола стреляешь в салтанов далеких! Стреляй, господине, в Кончака, кощея поганого, за землю русскую, за раны Игоря, буего Святославича! А ты, буй Роман и Мстислав, храбрая мысль носит ваш ум на дело. Высоко плаваете на дело в буести, словно соколы ширяяся на ветрах, стремяся и птицу одолеть в буести! У вас латы[17] железные под шлемами латинскими; от них потряслася земля и многие страны ханские. Литва, ятваги, деремела и половцы повергли перед вами свои копья[18] и главы свои преклонили под ваши мечи булатные!..[19] Заградите в поле путь своими острыми стрелами, за землю русскую, за раны Игоря, буего Святославича! Уже Сула не течет струями серебряными ко граду Переяславлю, и Двина болотом идет к грозным половчанам под кликами поганых. Един лишь Изяслав, сын Васильков, позвенел своими острыми мечами о шеломы литовские; помрачил славу деда своего, да и сам поблек под червлеными щитами, на кровавой траве, от литовских мечей. Не захотел скончаться на одре и рек самому себе: «Дружину твою, княже, крылья птиц приодели, а звери кровь полизали!» Не было тут с ним брата Брячислава, ни брата Всеволода: один он изронил жемчужную душу из храброго тела, чрез златое ожерелье. Уныли голоса, поникло веселие. О, Ярослав и все внуки Всеслава! поникнуть знаменам вашим, вложить вам в ножны свои мечи поврежденные; отстали вы от славы дедовской! Вы, своими крамолами, начали наводить нечестивых на землю русскую, на жизнь Всеславову. Когда прежде бывало насилие от земли половецкой?
(Здесь следует опять совершенно непонятное место, которое выписываем в подлиннике: «На седьмом веце Трояни върже Всеслав жребий о девицю себе любу. Тъй клюками подпръся о кони, и скочи к граду Кыеву, и дотчеся стружием злата стола киевскаго. Скочи от них (от кого?) лютым зверем в плъночи из Бела града, обесися сине мгле, утр же воззни стрикусы (?) отвори врата Новуграду, расшибе славу Ярославу, скочи влъком до Немиги с Дудуток». По всем вероятиям, темнота этого места происходит сколько от описок в рукописи, столько и оттого, что тут не описывается, а только намекается на обстоятельство слишком современное, а потому всём известное в эпоху певца «Слова»{96}. Всеслав, о котором идет речь, вероятно, был удалец из удальцов, и все это место есть поэтическая апофеоза, в духе того времени, его подвигов, отличавшихся удальством и быстротою. Клюки, которыми он подперся о кони, могут означать не костыли, необходимые для хромого, а название какого-нибудь прибора для верховой езды. Что же касается до «седьмого веку Трояни» – Троянов век и Троянова земля очень часто упоминаются в «Слове», и еще никто не объяснил их значения{97}. Хотя все последующее за выписанным нами в тексте местом также непонятно в историческом значении, однако понятно, за исключением одной фразы, по смыслу и полно необыкновенной поэзии):
На Немиге снопы стелют головами, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Кровавые береги Немиги не травою засеяны: засеяны они костьми русских сынов. Всеслав-князь людей судил, князьям города раздавал, а сам по ночам волком рыскал от Киева до Курска и Тьмутаракани. Ему в Полоцке рано зазвонили заутреню у святой Софии; а он в Киеве звон слышал. Хотя и вещая душа была в его друзе (?) теле{98}, но и он часто от бед страдал. Про него-то вещий Бонн сложил сей разумный припев: ни хитру, ни горазду, ни птицю горазду, суда божиа не минути! О, стонать тебе, земля русская, вспоминая прежние времена и прежних князей! Того старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам киевским…
Ярославнин голос раздается рано поутру:
Полечу я по Дунаю зегзицею, омочу бобровый рукав в Каяле-реке, отру князю кровавые раны на жестоцем теле его!
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, аркучи:
О ветер, о ветер! зачем, господине, так сильно веешь? Зачем на своих легких крыльях мчишь ханские стрелы на воинов моей лады? Или мало для тебя гор, чтобы веять под облаками, лелеючи корабли на синем море? Зачем, господине, развеял ты мое веселие по ковыль-траве?
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, аркучи:
О Днепр пресловутый! ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую, ты лелеял на себе ладьи Святославовы до стану Кобякова: взлелей же, господине, мою ладу ко мне, чтобы не слала я к нему по утрам слез моих на море.
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, аркучи:
Светлое и пресветлое солнце! всем и красно и тепло ты: зачем, господине, простер горячий луч свой на воинов моей лады, в безводном поле жаждою луки им сопряг, печалию им колчаны затянул?
Прыснуло море в полуночи; идут смерчи мглами: князю Игорю бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую, к златому престолу отчему. Погасла заря вечерняя: Игорь испит и не спит. Игорь мыслию поля мерит от великого Дону до малого Донца. Конь готов с полуночи: Овлур свистнул за рекою, чтоб князь догадался. Уже нет там князя Игоря. Застонала земля, зашумела трава, всколебалися вежи половецкие; а Игорь-князь горностаем бросился к тростнику и гоголем на воду; вскочил на борзого коня, и соскочил с него босым (?) волком, и побежал к лугу Донца, и полетел соколом под облаками, избивая гусей и лебедей на завтрак, обед и ужин. Когда Игорь соколом летит, тогда Влур волком бежит, отрясая с себя росу холодную; ибо истомили они своих борзых коней. И молвил Донец: «Княже Игорю, не мало для тебя величия, а Кончаку нелюбия, а русской земле веселия!» И молвил Игорь: «О Донче! не мало тебе величия, что ты лелеял князя на волнах, постилал ему зелену траву на своих серебряных берегах, одевал его теплыми мглами под сению зеленого дерева, стерег меня и гоголем на воде, и чайками на струях, и чернядями{99} на ветрах. Не такова, примолвил он, река Стугна: дурна струя ее, пожирает чужие ручьи и разбивает струги о берег. Юноше князю Ростиславу затворил Днепр берега темные. Плачется мати Ростислава по юноше князе Ростиславе. Уныли цветы от жалости, и древо с тугою к земле преклонило».
По следу Игореву ездит Гзак с Кончаком. Тогда враны не каркали, галицы помолкли, сороки не стрекотали; ползая по сучьям, только дятлы тектом путь к реке кажут, соловьи веселыми песнями свет поведают. Молвит Гзак Кончаку: «Когда сокол к гнезду летит, то соколенка[20] расстреляем своими стрелами золочеными». Молвит Кончак к Гзаку: «Когда сокол к гнезду летит, то опутаем соколенка красною девицею». И сказал Гзак Кончаку: «Если опутаем его красною девицею, то не будет у нас ни соколенка, ни красной девицы, и почнут нас птицы бить в поле половецком».
Сказал Боян: тяжко голове без плеч, худо телу без головы, а русской земле без Игоря. Солнце светится на небеси, а Игорь-князь в русской земле. Девицы поют на Дунае. Вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей. Страны рады, грады веселы, поют песнь старым князьям, а потом молодым. Пета слава Игорю Святославичу, буйтуру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Да здравствуют князи и дружина, поборающие за христиан на неверные полчища! Князьям слава, дружине аминь!{100}
* * *
Мы хотели было ограничиться только изложением содержания «Слова о полку Игореве», и, чтоб некоторым образом заставить его говорить за себя, хотели только местами выписывать самые характеристические выражения и самые оригинальные образы; но против нашей воли до того увлеклись его красотами, что, вместо голого содержания, представили читателям полный по возможности перевод. Думаем, что читатели не посетуют на нас за это: «Слово о полку Игореве» играет в нашей литературе роль какого-то невидимки; публика слышит о нем самые противоречащие мнения, которых поверить ей нет возможности. При– чина очевидна: не у всякого станет терпения и охоты прочесть искаженный подлинник, писанный языком столь устаревшим, что он по своей устарелости требует гораздо больше труда, нежели сколько в состоянии доставить наслаждения, исполненный непонятных слов и оборотов, сомнительных, темных, а часто и бессмысленных мест. Переводы же не дают о нем верного понятия, потому что переводчики хотели переводить его все – от слова до слова, не признавая в нем непереводимых мест. Некоторые из них просто пересочиняли его и свои собственные, весьма неинтересные изделия{101} выдавали за простодушную и поэтическую повесть старых времен. Мы же, во-первых, исключили из нашего перевода все сомнительное и темное в тексте, заменив такие места собственными замечаниями, необходимыми для связи разорванных частей поэмы; а в переводе старались удержать колорит и тон подлинника, а для этого или просто выписывали текст, подновляя только грамматические формы, или между новыми словами и оборотами удерживали самые характеристические слова и обороты подлинника. И потому наш перевод может дать довольно близкое понятие о «Слове» и вместе с тем даст читателю возможность поверить наше мнение об этом примечательном произведении народной поэзии древней Руси.
Мы не считаем за нужное доказывать, что «Слово о полку Игореве» отличается неподдельными поэтическими красотами, оно исполнено наивных и благородных образов: мы для того{102} и включили его в нашу статью, чтоб не толковать о том, что дважды два – четыре. Читайте и судите сами; если не понравится, нам нечего делать с этим: кому само дело не говорит за себя тем уж не помогут толкования. Между читателем и критиком необходимо должно существовать нечто вроде симпатии, нечто вроде заранее заключенного условия о том, что хорошо и что худо; иначе они не будут понимать друг друга. Дело критика не доказывать, поэтическое или непоэтическое такое-то произведение: подобный вопрос решается непосредственным чувством читателя, а не доказательствами критики; дело критика – показать не поэтическое достоинство, а степень поэтического достоинства в данном произведении, его идею, полноту, оконченность. На этот счет мы не обинуясь скажем, что «Слово о полку Игореве» отличается неподдельными красотами выражения; что, со стороны выражения, это – дикий полевой цветок, благоухающий, свежий и яркий. Но в поэтических произведениях выражение еще не составляет всего: все заключается в идее, и выражение по той мере возвышает достоинство произведения, по какой в нем высказывается идея. В «Слове о полку Игореве» нет никакой глубокой идеи. Это больше ничего, как простое и наивное повествование о том, как князь Игорь с удалым братом Всеволодом и с своей дружиною пошел на половцев, сперва разбил их, а потом сам был разбит наголову, попался в плен, из которого, наконец, удалось ему ускользнуть. Беспрестанные обращения к междоусобиям князей, или намеки на них, также составляют содержание и, сверх того, исторический фон поэмы. Источником исторического произведения поэзии может быть только история народа, и произведение в той только степени может отличаться глубокою идеею, в какой полна «общим содержанием» жизнь народа. Времена междоусобий с первого взгляда могут показаться самым поэтическим периодом в русской истории; но если глубже и пристальнее заглянете в сущность и значение этого времени, то увидите, что в нем не было никаких элементов, которые могли бы дать поэзии содержание; там были только элементы для поэзии чувства и выражения, по общему закону – где жизнь, там и поэзия. Есть резкое различие между поэзиею души человеческой и поэзиею общества человеческого, поэзиею историческою: первая существует и у диких племен; вторая только у народов, играющих великую роль на арене всемирно-исторического развития человечества. И потому «Слово о полку Игореве» не только нейдет ни в какое сравнение с «Илиадою», но даже и с поэмами средних веков вроде «Артура и рыцарей Круглого стола». Для пояснения этой мысли{103} сравните жизнь Западной Европы средних времен с жизнию Руси в XII веке: какая разница! В феодализме заключалась идея; удельная система, по-видимому, была случайностию, порождением естественных, патриархальных понятий о праве наследства. Феодализм вышел из системы завоевания: целый народ двигался на завоевание другого народа; покорив его, основывался, делался оседлым на завоеванной земле. Так как у завоевателя личную силу давало не рождение, а храбрость и заслуга, то избранный главою войска брал себе часть завоеванной земли, а все остальное делил на участки между своими сподвижниками. Отсюда произошли бесчисленные следствия, без сознания которых не может быть объяснена даже современная нам история Европы. Сподвижники главного вождя, получив свои участки, естественно, смотрели на него не как на своего властелина, а как на старшего товарища по оружию, во всем прочем равного им, и почитали себя вправе по собственному произволу смотреть на него как на друга или как на врага и, сообразуясь с этим, становиться к нему в приязненное или неприязненное отношение. Простые воины, не получившие участков, поступали на жалованье к своим патронам, а не властелинам, – селились на их земле и платили им за то военного службою: образовался класс вассалов – свободных воинов, не рабов. Завоеванный же народ, по праву завоевания, делался собственностию, рабом завоевателя, кроме, разумеется, людей высшего сословия, которым политика завоевателей предоставляла равные права, на условии покорности. Из этого положения возникала борьба, результатом которой было разумное развитие. Завоеванный народ, питая ненависть к завоевателю, образовывал собою самостоятельный элемент государственной жизни, – и борьба не переставала ни на минуту. Когда же языки обоих народов сливались в один язык, а оба народа в один народ, тогда элемент завоевателя образовался в аристократию, элемент завоеванного – в низший класс общества, и из борьбы возникали, с одной стороны – натиск утвержденных временем исключительных прав, с другой – упругий отпор, или оппозиция. Отличительное свойство идеи таково, что она не стоит на одном месте, не является ни на минуту чем-то особенным, определившимся, оторванным от прошедшего и будущего, но беспрестанно движется, из старого рождая новое. Право аристократии сперва было не чем иным, как правом сословия, справедливо гордившимся высокостию своих чувств, благородным образом мыслей, и не без основания почитавшим себя вправе с презрением смотреть на низкую чернь, как на предназначенную от природы для низких нужд жизни. Возникновение городов и среднего сословия было первым шагом к изменению этих отношений. Еще прежде завязалась борьба между государями и феодалами, борьба, бывшая не случайностию, а естественным результатом положения дел, и необходимая для сформирования государства в единое политическое тело. Монархизм нашел себе естественного союзника в городах, города – в монархизме, и оба они стали грудью против рыцарства, до тех пор, пока рыцарство, переродившееся в аристократию, или вельможество, снова не явилось естественным союзником монархизма, и только в другом виде, но все прежним врагом и среднего сословия и народа.
Мы потерялись бы во множестве элементов, из которых слагается европейская жизнь, которые все вышли из одного источника и суть не что иное, как единая, бесконечно развивающаяся, вечно движущаяся из самой себя идея. Нет ни тени этого в древней русской жизни. Удельная система была точь-в-точь то же самое, что помещичья система: отец-помещик, умирая, разделяет поровну своих крестьян между своими сыновьями. В России не было завоевания, и потому одинокий элемент народной жизни, не сшибаясь в борьбе с другим элементом, лишен был возможности развития. Что ни говорят господа скандинавоманы и сколько трактатов ни пишут они, но, вопреки всем их обветшалым доказательствам, если Русь и призвала иноземных властителей княжити и володети, – кто бы ни были эти властители – турки или поморские славяне (померанцы), только не скандинавы{104}. Норманны, хоть бы и были сами призваны мирно и честно, не пришли бы с малою дружиною, не потеряли бы в управляемом ими племени своей народности, но внесли бы в его жизнь свою народность, внесли бы феодализм, военное право, рыцарские понятия, и самый русский язык не оставили бы в его первобытной чистоте, но вместе с новыми понятиями ввели бы и множество новых слов и оборотов. Этого не было, даже и следов этого не видно, и потому варяжские или, пожалуй, русские князья были просто-напросто или припонтийские татары (хозары), или прибалтийские славяне. И потому из немудреной причины и произошли немудреные следствия. Удельная система – самая естественная и простодушная из всех систем в мире – принесла только внешнюю пользу России, сделавшись причиною ее внешнего расширения и потом – сплочения. В междоусобиях князей нет никакой идеи, потому что их причина – не племенные различия, не борьба разнородных элементов, а просто личные несогласия. Народ тут не играл никакой роли, не принимал никакого участия. Черниговцы дрались с киевлянами не по племенной ненависти, а по приказанию князей своих. В повести Пушкина «Дубровский» превосходно выражена удельная борьба в раздоре крестьян Троекурова и Дубровского: бары поссорились, а слуги начали драться, вытаптывать поля, бить скот и поджигать избы.
«Слово о полку Игореве» принадлежит к героическому периоду жизни Руси; но как героизм Руси состоял в удальстве и охоте подраться, без всяких других претензий, то «Слово» и не может назваться героическою поэмою. Действие героической поэмы должно быть сосредоточено на одном лице, которое должно осуществлять собою все, или, по крайней мере, хоть одну из субстанциальных сторон духа народа. Игорь же только внешним образом является героем «Слова»: это какой-то образ без лица; в нем нет ничего индивидуального; он лишен всякого характера; личности его нисколько не видно; нет никаких данных считать его представителем народа. Сверх того, он заслоняется то удалым братом своим, буйтуром Всеволодом, то отцом своим, Святославом, то, наконец, своею храброю дружиною. Участие его в поэме больше страдательное, чем деятельное. Он объявляет дружине, что хочет или сложить голову в земле половецкой, или испить шеломом Дону великого; приглашает храброго брата своего Всеволода, ведет свою дружину в половецкую землю, выигрывает битву, потом проигрывает другую и, попавшись в плен, исчезает из поэмы: большая часть ее состоит из речи Святослава и плача Ярославны. Потом уже, в конце поэмы, Игорь снова является на минуту, убегая из плену. Вообще, он ничем не возбуждает к себе нашего участия. Хотя Всеволод тоже обрисован очень слабо и как бы вскользь, однако он больше является героем в духе своего времени. Его речь к Игорю дышит страстью и вдохновением боя. В битве он рисуется на первом плане и заслоняет собою бесцветное лицо Игоря. Святослав является не как действующее лицо, но голосом истории, выразителем политического состояния Руси: за ним явно скрывается сам поэт. Вообще, в поэме нет никакого драматизма, никакого движения; лица поглощены событием, а событие совершенно ничтожно само по себе. Это не борьба двух народов, но набег племени на соседнее племя. Очевидно, все эти недостатки поэмы заключаются не в слабости таланта певца, но в скудости материалов, какие могла доставить ему народная жизнь. Здесь причина и того, что сам народ является в поэме совершенно бесцветным: без верований, без образа мыслей, без житейской мудрости, с одним богатством живого и теплого чувства. И потому вся поэма – детский лепет, полный поэзии, но скудный значением, лепет, которого вся прелесть в неопределенных, мелодических звуках, а не в смысле этих звуков…







