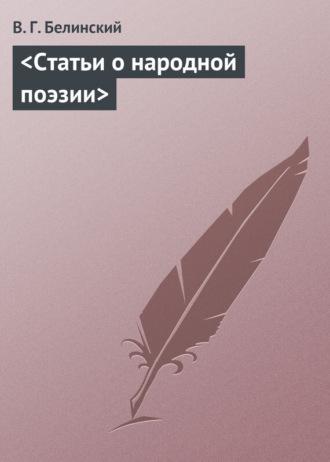
В. Г. Белинский
Статьи о народной поэзии
Итак, очевидно, что органическая, живая полнота искусства состоит в примирении двух крайностей – искусственности и естественности. Каждая из этих крайностей сама по себе есть ложь; но, взаимно проникаясь одна другою, они образуют собою истину. Искусственность, как односторонность и крайность, произвела мертвый псевдоклассицизм; естественность, как односторонность и крайность, произвела литературу площадей, кабаков, тюрем, боен, домов разврата. Но та и другая были необходимы в процессе исторического развития понятия об искусстве: сперва была выразумлена одна сторона понятия, потом другая; но эта другая, при всей своей видимой противоположности с первою, вышла явно из нее же: ибо когда представление, дошед до крайности, впадает в нелепость, то утомленный и оскорбленный ум быстро переходит к совершенно противоположному представлению. Результатом этого перехода опять бывает утомление и оскорбление, потому что и вторая односторонность должна дойти до крайности и, впавши в нелепость, тем самым отрицать себя. Тогда ум обращается к первой односторонности, беспрестанно отыскивает ее истинную сторону, которую и примиряет с истинною стороною второй односторонности, и чрез этот процесс достигает до сознания полной и действительной истины, понятия. В этом примирении ясно видно сродство крайностей. Так было и с искусством: отвергши псевдоклассицизм, мы отвергли и псевдоромантизм и в созданиях гениальных поэтов, на авторитет которых думают опираться мелкие таланты, видим истинное искусство, заключающее и примиряющее в своей органической полноте все свои противоположности{30}. Обыкновенно народность смешивают с естественностию, тогда как это два совершенно особенные представления: хотя истинно народное не может не быть естественным, но истинно естественное может быть нисколько не народным. Сверх того, некоторые из наших писателей, заметив, что европейское образование сглаживает угловатости народности, и смешивая форму с идеею, обратились преимущественно к низшим классам парода. Истинный художник народен и национален без усилия; он чувствует национальность прежде всего в самом себе и потому невольно налагает ее печать на свои произведения. Хотя Татьяна Пушкина и читает французские книжки и одевается по картинкам европейских мод, но она – лицо в высшей степени русское – и тогда, как мы ее видим «уездною барышнею», и в то время, как она является княгинею и светскою дамою. Для изображения таких благородных личностей нужна гениальность или великий талант; маленьким дарованиям, а особенно посредственности, сподручнее мужики, бабы, лакеи: стоит только заставить их говорить их языком – и народность готова. Зато мужики и бабы гениальных поэтов бывают благороднее господ и вельмож маленьких дарований и посредственности: няня Татьяны Пушкина, при своей простоте и ограниченности, как изображение, дышит художественною грациею и достолюбезностию: мы смеемся над нею, но любим и уважаем ее; ее простодушная, бессознательная любовь к Татьяне приводит нас в умиление, – и вместе с Татьяною мы вздыхаем над могилою ее бедной няни.
Где жизнь, там и поэзия; но жизнь только там, где идея, – и уловить играние жизни, значит уловить невидимый и благоуханный эфир идеи. Для искусства нет более благородного и высокого предмета, как человек, – а чтоб иметь право быть изображену искусством, человеку нужно быть человеком, а не чиновником 14-го класса или дворянином. И у мужика есть душа, сердце, есть желания и страсти, есть любовь и ненависть, словом – есть жизнь. Но чтоб изобразить жизнь мужиков, надо уловить, как мы уже сказали, идею этой жизни, – и тогда в ней не будет ничего грубого, пошлого, плоского, глупого. Вот отчего «Вечера на хуторе Гоголя, посвященные изображению простого быта Малороссии, дышат такою полнотою художественности, очаровывают такою неотразимою прелестию, такою дивною поэзиею. Но, повторяем, для этого нужен гений и гений, талант и талант. Скажут: гений и талант еще нужнее в изображении высших слоев общества. Нет: если для изображения художественного, то нужен такой же талант, как и везде; но не всякий талант есть художник, а литература состоит не из одних художественных созданий, – и беллетристика – этот насущный хлеб большинства общества, это практическое, житейское искусство толпы– также требует талантов, и даже больших талантов. Вот этим-то талантам всего опаснее спускаться в низшие слои общества, откуда, вместо народности, они могут вынести только грубую простонародность; и им-то всего лучше браться за изображение средних и даже высших слоев общества, где жизнь разнообразнее, обширнее, отношения человечнее, утонченнее, многосложнее, игривее, глубже. В беллетристике внешняя цель может иметь и большую пользу и важное значение, тогда как в искусстве одна цель – само искусство. Теперь, если беллетрический писатель, выводя на сцену чудаков, невежд, подлецов, даже самую чернь, имеет в виду действовать на образование общества, пускать в оборот человеческие понятия, новые мысли, – я низко кланяюсь ему, если он делает это с талантом: его место высоко, его призвание священно, его имя честно и славно. Но когда он рисует грязь общества, подонки народа, не для чего иного, как для того, чтоб самому насладиться и пленить меня этим зрелищем, – то чем естественнее, чем правдоподобнее будут его изображения, тем они для меня отвратительнее и бессмысленнее. Не должно забывать ни на минуту, что герой искусства и литературы есть человек, а не барин, еще менее мужик. Если Шекспир давал место в своих драмах всем людям без разбора, – он это делал потому, что видел в них людей, а отнюдь не по пристрастию к черни. Предпочитать мужиков потому только, что они мужики, что они грубы, неопрятны, невежественны, предпочитать их образованным классам общества – странное и смешное заблуждение! И сам гений в изображении жизни черного народа всегда найдет меньше элементов поэзии, чем в образованных классах общества: беллетрический же талант не найдет в жизни черни никакой поэзии. Впрочем, мы далеки от того, чтоб отнимать право у талантливого литератора касаться жизни простого народа; но мы требуем только, чтоб он это делал не по любви к мужицкому жаргону, не по склонности к лохмотьям и грязи, но для какой-нибудь цели, в которой была бы видна человеческая мысль. Объясним это примером. Г-н Погодин{31} написал некогда повесть «Черная немочь», которая в свое время обращала на себя внимание публики, подобно многим, теперь забытым произведениям. В этой повести действуют купцы, попадьи, батраки и подобный тому люд; язык ее блещет всеми красотами, свойственными языку подобного общества; но повесть все-таки заслуживает похвалу по своему намерению. Главный герой ее молодой человек, сын купца, томимый святою жаждою знания. Окруженный действительностию, от которой страждет обоняние, зрение и человеческое достоинство и которая автором скопирована во всей ее наготе и естественности, – он погибает жертвою этой грязной действительности. Правда, герой изображен не совсем естественно, довольно слабо, без теплоты и увлекательности; но мы говорим не о таланте (а таким предметом не погнушался бы и гений), но о добром намерении сочинителя. По этому доброму намерению повесть может быть сочтена за заслугу со стороны г. Погодина русской литературе. То же можно сказать и о его маленькой повести «Нищий». Но когда г. Погодин стал рассказывать, как купеческая дочь задушила под периною парня, как баба, потчуя дьячка сивухой, сказала ему: «Кушай на здоровье», а тот отвечал ей любезностью: «Маслецо коровье»; или пересказывать похождение на ярмарке разудалой бабы-чиновницы и пересказывать ее языком; а потом героиню повести, порядочную женщину, из любви к мужу заставлять жить в подвале, в сонмище пьяниц, воров и мошенников; или изображать психологические явления мужиков, которые режут других и давятся сами{32}, – признаемся, это верх романтизма, верх народности, которые хуже всякого классицизма. Мы уважаем «Юрия Милославского» г. Загоскина; но, признаемся, решительно не понимали в его других романах прелести ярмарочных сцен и языка героев этих сцен. Мы отдаем полную справедливость юмористическому таланту, с каким написан «Пан Халявский» г. Основьяненка; еще выше ценим прекрасную цель, с какою написана эта забавная сатира на доброе старое время, но не можем восхищаться многими из произведений г. Основьяненка за то только, что в них мужики говорят чистым мужицким языком и никак не выходят из ограниченной сферы своих понятий. Напротив, нам приятнее было бы в подобных произведениях встречать таких мужиков, которые, благодаря своей натуре или случайным обстоятельствам, несколько возвышаются над ограниченною сферою мужицкой жизни…
Но, слава богу, теперь начинают понимать цену такой народности, и начинают понимать ее потому именно, что теперь эта народность находится в своей апогее, дошла до последней степени нелепости: для ее распространения появились на манджурской границе особые издания, слух о которых доходит до нас через Кяхту, вместе с китайским чаем. В этих изданиях (говорят, их существует целых два, из которых одно объявляет себя отцом другого, хотя они тискаются и в разных местах Срединного царства), в этих изданиях нас приглашают учиться у черни не только литературе, но и нравам, и обычаям, и даже тому, что составляет внутреннюю жизнь и свободное убеждение каждого порядочного человека{33}. Деревенские старосты и богомольные старухи представляются у них образцами нравственности, созерцательных откровений и даже образованности и просвещения. Так-то справедливо, что ложь гораздо опаснее и страшнее, когда существует невидимкою и призраком: чтоб уничтожить ее, должно не мешать ей дойти до своей последней крайности, впасть в нелепость, сделаться смешною, вполне проявиться, принять образ и лицо, словом – созреть; тогда она прорвется и сама собою уничтожится. Когда преследуешь зло, надо видеть его перед собою, чтоб можно было показать его другим. Вот почему те, которые хлопочут в его пользу, сражают его скорее других, ему противоречащих. Это единственная и притом очень важная заслуга со стороны людей, которые всю жизнь свою бьются из разных, полезных их благосостоянию, лжей. Истина только вначале встречает сильное сопротивление, но чем больше выясняется, чем больше становится фактом, тем большее число приобретает себе друзей и поборников. Ложь идет обратным ходом: сильная, пока не вполне проявится, она уничтожается сама собою, подобно призраку, исчезающему от лучей света.
«Народность» – великое дело и в политической жизни и в литературе; только, подобно всякому истинному понятию, она сама по себе – односторонность, и является истиною только в примирении с противоположною ей стороною. Противоположная сторона «народности» есть «общее» в смысле «общечеловеческого». Как ни один человек не должен существовать отдельно от общества, так ни один народ не должен существовать вне человечества. Человек, существующий вне народной стихии, – призрак; народ, не сознающий себя живым членом в семействе человечества, – не нация, но племя, подобное калмыкам и черкесам, или живой труп, подобно китайцам, японцам, персиянам и туркам{34}. Без народного характера, без национальной физиономии, государство – не живое органическое тело, а механический препарат, подобно Австрии. Но, с другой стороны, и национального духа еще недостаточно для того, чтоб народ мог считать себя чем-нибудь существенным и действительным в общности мироздания. В том и другом случае народ есть односторонность и крайность, а следовательно, и призрак. Чтоб народ был действительно историческим явлением, его народность необходимо должна быть только формою, проявлением идеи человечества, а не самою идеею. Все особное и единичное, всякая индивидуальность действительно существует только общим, которое есть его содержание и которого она только выражение и форма. Индивидуальность – призрак без общего; общее, в свою очередь, призрак без особного, индивидуального проявления. И потому люди, которые требуют в литературе одной «народности», требуют какого-то призрачного и пустого «ничего»; с другой стороны, люди, которые требуют в литературе совершенного отсутствия народности, думая тем сделать литературу всем равно доступною и общею, то есть человеческою, также требуют какого-то призрачного и пустого «ничего». Первые хлопочут о форме без содержания; вторые – о содержании без формы. Те и другие не понимают, что ни форма без содержания, ни содержание без формы существовать не могут, а если существуют, то в первом случае, как пустой сосуд странного и нелепого вида, а во втором, как миражи, которые всем видимы, но которые в то же время почитаются несуществующими предметами. Очевидно, что только та литература истинно народна, которая, в то же время, есть литература общечеловеческая; и только та литература – истинно человеческая, которая в то же время и народна. Одно без другого существовать не должно и не может. Нам скажут в опровержение, что нет племени на земле, которое бы, при всей своей ничтожности, не имело у себя поэзии; а как всякая поэзия есть действительно существующий факт, то, следовательно, можно иметь народную поэзию и не принадлежа к семейству человеческого рода. Возражение, только кажущееся основательным! Нет на земле племени, которое не принадлежало бы к семейству человеческого рода; но дело в том, что одно племя меньше, а другое больше принадлежит человечеству, и что, в этом отношении, все племена и народы представляют собою цепь, которой звенья с обоих концов постепенно увеличиваются к центру. Египтяне так же исторический народ, как и евреи; но важность их для человечества далеко не одинакова: первые внесли особый элемент в многосложную жизнь Греции, и только этим упрочили свое существование в истории; результатом же существования евреев была божественная книга, покорившая теперь под свою спасительную власть лучшую часть человечества и готовая скоро покорить весь мир{35}. Потому нет нужды говорить, который из этих двух народов более принадлежит человечеству. Где только человек владеет словом, любит и ненавидит, блаженствует и страдает, там уже и является человечество, там уже есть и жизнь и поэзия; но большая разница в объеме слова, любви, ненависти, блаженства и страдания, между диким отаитянином и образованным европейцем, между финном, калмыком, тунгузом и – французом, немцем, англичанином. Такая же разница и между литературами. Есть люди, которые посвящают целую жизнь изучению греческой литературы; но едва ли человек с умом и душою посвятит всю жизнь свою на изучение чухонской литературы!..{36}
Важность и достоинство народов определяется их историческим значением. Народ, не имеющий истории, – ничто, хотя бы занимал собою половину земного шара и считал свое народонаселение сотнями мильонов. Так, нынешние персияне хотя и составляют значительное государство в Азии, не имеют истории, потому что перемены династий и властителей еще не составляют истории. Есть народы, которые имеют внутреннее историческое значение, как выражающие своею жизнию идею: таковы в Европе народы галльско-римско-тевтонского образования. Есть народы, которые имеют только внешнее историческое значение, как действовавшие на других силою тяготения и существования не для себя: таковы монголы, турки, такова теперь Австрия. Не нужно говорить, что важность первых субстанциальная, а вторых – относительная. Есть народы, которые имели мгновенное историческое значение и с окончанием его погибли: таковы древние ассирияне, мидийцы, персы, финикияне, карфагеняне и проч. Есть народы, которые, имев мгновенное или продолжительное историческое значение, пережили его как бы навсегда: таковы теперешние евреи, китайцы, японцы, индусы, аравитяне. Есть, наконец, народы, которые имели или имеют историческое значение не сами собою, а только тем, что приняли от чуждого им племени субстанциальное начало жизни, особенно религию: таков теперь весь мухаммеданский Восток, покоренный аравийским исламизмом. Все эти различия очень важны, потому что ими определяется степень достоинства каждого народа, а следственно, и его поэзия и литература{37}. И у персиян есть поэзия; но ее основа – мухаммеданско-пантеистическое миросозерцание, занятое от арабов; следовательно, ее отнюдь не должно равнять с арабскою поэзиею.
Поэзия каждого народа есть непосредственное выражение его сознания; от этого поэзия тесно слита с жизнию народа. Вот причина, почему поэзия должна быть народною, и почему поэзия одного народа не похожа на поэзию всех других народов. Для всякого народа есть две великие эпохи жизни: эпоха естественной непосредственности, или младенчества, и эпоха сознательного существования. В первую эпоху жизни национальная особность каждого народа выражается резче, и тогда его поэзия бывает по преимуществу народною. В этом смысле народная поэзия отличается резкою особностию, и потому более доступна уразумению всей массы этого народа и более недоступна для других народов. Русская песня сильно действует на русскую душу, но нема для иностранца и не переводима ни на какой язык. – Во вторую эпоху существования народа поэзия его делается менее доступною для массы народа и более доступною для всех других народов. Русский мужик не поймет Пушкина, но зато пушкинская поэзия доступна всякому образованному иностранцу и удобопереводима на все языки. Если народ ничтожен в историческом значении, его естественная (народная) поэзия всегда выше его художественной поэзии, потому что последняя более требует общечеловеческих элементов, и если не находит их в жизни народа, то делается подражательною. Так, народная чешская поэзия и богата и сильна, а художественная не представляет ничего великого. Естественная (или собственно народная) поэзия более зависит от субстанции народа, чем от его исторического значения. Вот почему римляне – всемирно-историческая и великая нация – не имели народной поэзии. Что касается до греческой поэзии – она составляет собою как бы исключение из общего правила: она никогда не была собственно народною, но всегда, будучи народною, в то же время была и общечеловеческою, всемирно-историческою. Причина этого – бесконечное миросозерцание, лежавшее в субстанции эллинского племени: в самых древнейших мифах эллинов заключаются абсолютные идеи, художественно выраженные, и в этом отношении их древнейшие поэты, до Гезиода и Гомера существовавшие, равно как и сами Гезиод и Гомер, отличаются от позднейших – Софокла и Еврипида больше степенью исторического развития искусства, чем художественного достоинства. Художественная поэзия всегда выше естественной, или собственно народной. Последняя – только младенческий лепет народа, мир темных предощущений, смутных предчувствий; часто она не находит слова для выражения мысли и прибегает к условным формам – к аллегориям и символам; художественная поэзия есть, напротив, определенное слово мужественного сознания, форма, равновесная заключающейся в ней мысли, мир положительной действительности; она всегда выражается образами определенными и точными, прозрачными и ясными, равносильными идее. Мы помним, как, в разгаре романтического брожения, многие утверждали у нас, что народная песня выше всякого художественного произведения и что будто бы какой-нибудь Пушкин за честь себе ставил подделаться под простой и наивный склад народной песни: смешное заблуждение, впрочем, понятное в эпоху одностороннего увлечения! Нет, одно небольшое стихотворение истинного художника-поэта неизмеримо выше всех произведений народной поэзии, вместе взятых! И если художник-поэт настроивает свою разнообразную, гармоническую лиру на монотонный лад народной мелодии – он делает этим честь народной поэзии и обнаруживает могущество Протея{38}, способного являться во всех формах. Его народная песнь выше всех собственно народных песней, вместе взятых: произведение, которое выходит из творческого духа, обладающего своим предметом, всегда выше того, которое выходит из духа, покоренного своим предметом. И со всем тем, в народной или естественной поэзии есть нечто такое, чего не может заменить нам художественная поэзия. Никто не будет спорить, что опера Моцарта или соната Бетховена неизмеримо выше всякой народной музыки, – это доказывается даже и тем, что первые никогда не наскучат, но всегда являются более новыми, а вторая хороша вовремя и изредка; но тем не менее неоспоримо, что власть народной музыки бесконечна над чувством. Не диво, что русский мужичок и плачет и пляшет от своей музыки; но то диво, что и образованный русский, музыкант в душе, поклонник Моцарта и Бетховена, не может защититься от неотразимого обаяния однообразного, заунывного и удалого напева нашей песни… Возраст мужества выше младенчества – нет спора, но отчего же звуки нашего детства, его воспоминания даже и в старости потрясают все струны нашего сердца и радостию и грустию и вокруг поникшей головы нашей вызывают светлых духов любви и блаженства?.. Оттого, что младенчество есть необходимый и разумный период нашего существования, который бывает только раз в жизни и больше не возвращается… Это время нашего единства с природою, в котором так много простодушной и невинной любви; время нашего непосредственного сознания, в котором все было ясно, без тяжких дум и тревожных вопросов, как будто бы сильфы и феи дружелюбно нашептывали сердцу священные откровения, и небесная манна сама падала на землю, не орошенную потом труда и забот… Славное то время было, читатель мой, когда солнышко улыбалось вам с чистого неба, когда цветочек наклонением стебелька ласково приветствовал вас, мотылек манил вас бегать по лугу, кузнечик пел вам свою однообразную песенку, и старый ручей, по выражению гениального сумасброда Гофмана, рассказывал вам чудные сказочки!..{39} Вы и природа были тогда – одно, и все в природе было для вас дружеским откровением священной тайны любви и блаженства!.. Выше же бокал мой за вас, счастливые лета моего младенчества! – говорите вы. Я теперь умнее, чем был тогда; я не променяю разума на самое блаженство, но мне все-таки жаль вас, радужные дни моего счастливого детства!..
Да, мысль выше непосредственного чувства, пора мужества выше поры младенчества; но все же и в непосредственном чувстве и в поре детства есть нечто такое, чего нет ни в разумном сознании, ни в гордой возмужалости, что бывает только раз в жизни и больше не возвращается… Так и для народа: он все тот же и в эпоху разумного сознания, как и в эпоху непосредственного чувства; но его непосредственное чувство было почвою, из которой возник и развился цвет и плод его разумного сознания. Все последующее есть результат предыдущего: разумная мысль часто есть только сознанное предание темной старины, а знание часто есть только уясненное предчувствие; а страна мифов и таинственных предречений есть страна, полная очарования и чудес… Жизнь распадается на множество сторон и вновь совокупляется в единое и целое; единое выше множества, целое выше частей, но и во всякой отдельности есть нечто свое, не заменимое целым. В художественной поэзии заключаются все элементы народной, и, сверх того, есть еще нечто такое, чего нет в народной поэзии: однако ж тем не менее народная поэзия имеет для нас свою цену так, как она есть, – в ее чистом, беспримесном элементе, в ее простой, безыскусственной и часто грубой форме.
Многое еще можно сказать об общих чертах народной поэзии; но это удобнее сделать в применении к русским песням и сказкам, – что мы и исполним в следующей статье, а эту просим считать только общим взглядом на значение всякой народной поэзии.







