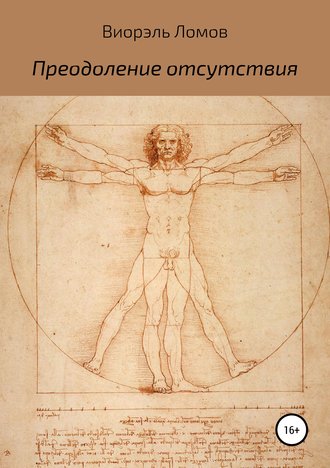
Виорэль Михайлович Ломов
Преодоление отсутствия
– Только побыстрей, Илья Данилыч, одной ногой здесь, другой – там.
Городничий, орудуя левой ногой, как циркулем, в дверях поворачивался к Кутузову и громко восклицал:
– А ты тут, Николай Семеныч, смотри – гляди в оба!
***
– Вот такая она, небольшая история о Диоскурах, – сказал Рассказчик.
***
Мурлов с болью в сердце подумал, ах как хорошо было бы написать об этом! Вот только кому, кому это надо? Кого заинтересует очередная загубленная обстоятельствами и всем своим укладом жизнь? Разве из старых знакомых кто-нибудь скажет: «А что это с Мурловым? Написал че попало!» Ах, как режет сердце. Где этот чертов нитроглицерин? Что-то похожее есть на него… Нитротолуол. Что это – весна на дворе? Или уже лето? Выходишь с работы – день кончился. Вот так выйдешь когда-нибудь – и жизнь кончится.
Я вдаль с надеждою глядел – с морского мола, а за спиной запал горел – к заряду нитротолуола.
Мог ли Мурлов двадцать лет назад предполагать, что свое сорокапятилетие он будет встречать начальником участка в одном из цехов крупного завода; в двухкомнатной малогабаритной квартире, обставленной полированной по блату «достатой» мебелью местной фабрики, с видом на балку с желтым ручьем и разноцветными, в зависимости от времени года, склонами; главой семейства, состоящего из пяти человек, в котором главной была жена, задерганная непрерывными заботами и страхами (так непохожими на заботы и страхи Долли Облонской), а пасынок был ближе и понятнее родных детей, так как его не затронули как-то эти шмотки, пластинки, безделье и удивительное равнодушие к чужим проблемам и болям родных людей.
Мог ли Мурлов двадцать лет назад вообразить, что к сорока пяти годам он не станет доктором физматнаук, членкором академии, лауреатом госпремии, директором нового института; что у него не будет коттеджа возле пруда с винтовой лестницей на второй этаж, «Волги» в трехуровневом кирпичном гараже, яхты, пяти очаровательных одуванчиков-девочек, нежной, как яблоневый цвет, не знающей забот и потому постоянно заботливой, не знающей рваных колготок, донашиваемых зимой, жены; не будет ни Пегаса, ни Парнаса, ни фей с музами; и не будет друзей, членов-корреспондентов, членов Дома ученых.
А будет нечто иное, но тоже имеющее право на существование.
Мог ли Мурлов двадцать лет назад подумать, что он в сорок пять лет будет вставать в половине шестого под будильник, точнее даже вперед будильника; будет бегать на базар, давиться в очередях за всем на свете, кроме, разве, пока самой жизни (хотя все шло к этому); будет на работе инженером, лаборантом, начальником, машинисткой, экономистом, дружинником, агитатором, духовником, снабженцем, матершинником, передовиком, победителем и ударником, и вообще непонятно кем, а именно: всем, кроме самого себя. Будет подрабатывать, калымить и все равно едва-едва сводить концы с концами, хотя он вовсе не был похож на гоголевский персонаж.
Мог ли представить себе, что он будет решать не проблемы единой теории поля или черных дыр во Вселенной, а примеры и задачки из школьного учебника, печатать жене ее методички, а дочери «шпоры» для выпускных экзаменов в школе; мучиться от камней в почках, болей в сердце и сомнений в голове по поводу того, что у него теперь уже, наверное, никогда не будет ни друга, ни любовницы, ни врага; и что вместо бескорыстного служения человечеству он будет дуться на весь мир, как мышь на крупу; что он будет мечтать напиться в стельку, как тогда на Кавказе, и не сможет выпить лишние сто-двести граммов, так как алкоголь был ему противен, точно у него была не одна, а десять печенок, чутко реагирующих на любую гадость, которой и так накопилось в нем до состояния насыщения.
Мог ли Мурлов тогда знать, что ничего нет вечного: ни любви, ни дружбы, ни привязанности, ни стремлений, ни успеха, ни молодости, ни жизни.
Двадцать лет назад Мурлов мог это знать, подумать, вообразить, представить себе. Но в двадцать пять лет считают себя сильнее обстоятельств и все кажется бесконечным, как собственная жизнь. В двадцать пять лет не знают еще, что сильнее всего на свете человеческие слабости, объясняемые какими-то непонятными словами «генотип», «карма», «менталитет», а бесконечной может быть одна только лень, плодоносящая червивыми надеждами и несъедобными иллюзиями.
Мог ли он подумать тогда, в двадцать пять лет, что всего через двадцать лет на доске объявлений за проходной завода повесят его фотографию в черной рамке и некролог. Кто бы вообще мог подумать, что на той фотографии он – счастливейший из смертных в счастливейший день его жизни, дельфин, взлетевший над серой житейской волной, – об этом знал один он. И все напряженно всматривались в фотографию, будто она, как портрет Дориана Грея, несла в себе какую-то тайну, будто он, который был на ней, мог дать ответ, куда он ушел. Не найдя ответа, они все уходили от него в противоположную сторону, уходили в полной уверенности, что им уже никогда не придется встретиться с ним или идти одной дорогой; они думали, что их дорога – не его дорога; они еще не знали, что у всех дорога одна.
Мог ли он подумать, что однажды услышит над собой странно изменившийся, ставший вдруг неузнаваемым голос:
– Сдается мне, кхм… Что он того… Кажется, немножечко мертв.
И этот ставшим вдруг чужим голос будет как-то странно таять, как тает в тумане зримый образ, оказавшийся за невидимой чертой видимости, причем будет таять не сам голос, а составляющие его части – слова. Они, как капли срывающиеся в воду, падали одно за другим на невидимую громадную плоскость где-то за головой, расходились кругами и исчезали навсегда. И не имели слова эти никакого к нему отношения, хотя говорили так о нем.
И когда его хоронили, то прощались с ним так, точно навсегда.
Сидели на табуретках, стояли в дверях, как-то в пол-оборота смотрели на него, точно боясь повернуться, как на дуэли, всем разворотом груди. И опять никто не находил в его лице ответа: где же он сейчас? Странная вещь – они все (даже те из них, кто равнодушно или лукавя, навесил на себя скорбную маску) скорбели больше его самого. Неожиданный уход непостижим, им поверяют себя, а значит, ему не верят. Некоторым казалось, что он дышит и даже улыбается. А что, он дышал по-своему и даже улыбался.
Только когда его накрыли крышкой, из него навсегда ушло лицемерие и он впервые – не понял, нет – почувствовал, как могут чувствовать все умершие, что больше он никому ничего не должен, что он, наконец-то, свободен.
Увы, истину в этой жизни находят, когда кончается эта жизнь.
***
Занятно выходит: строишь планы будущего и оказываешься вдруг в развалинах прошлого. Только выберешься из развалин прошлого, глядь – а ты уже в руинах будущего!
Глава 45. Домовладелец
В Англии Гвазава лишний раз убедился в том, что английская поговорка «Мой дом – моя крепость» соответствует истине, а сама Англия гораздо больше, чем кажется при взгляде на карту мира. По рекомендации своих лондонских партнеров он жил в замке отошедшего от профсоюзных дел лидера довольно крупного тред-юниона, мистера Гризли.
Мистер Гризли не был джентльменом в уайльдовском или моэмовском смысле этого слова, не говоря уже о мнении на сей счет пэра Англии Байрона, лорда Честерфилда или герцога Веллингтона, но был вполне приличным человеком. То обстоятельство, что мистер Гризли являлся владельцем роскошного замка на юго-восточном побережье Англии, наполняло его такой значительностью, что коренастая и несколько грузноватая фигура британца выглядела рослой и стройной, а манеры – безукоризненными. Вещи совершенно немыслимые в российском гражданине, даже очень высоком и стройном и имеющем ученую степень или заслуженное звание на поприще искусств. Россиянина – посели его хоть во Дворце дожей в Венеции и накачай значительностью под самую завязку – узнаешь за версту. Копна значительности с вороватыми глазами. В мистере же Гризли эта значительность была естественна, как в Англии английский туман, которого, впрочем, за все время пребывания Гвазавы в Новом Альбионе не было и в помине. И – надо отдать должное мистеру Гризли – значительность не переходила у него в снобизм. Мистер Гризли и замок подходили друг другу, как добропорядочная семейная пара из Ноттингема или старинная чайная пара из китайского фарфора. Он мог не произносить фразу «мой дом – моя крепость», это было видно и так, без всяких слов.
Замок располагался в живописном месте под Брайтоном на берегу Ла-Манша. Это были места, издавна не обиженные ни богом, ни историей. В проливе – на протяжении суток то сером, то черном, то белом или бирюзовом – весело белели треугольники парусов сотен яхт, и они вносили в душу покой и свежесть одновременно.
На этот раз туманов и чопорных англичан не было. Ночное мраморное небо было, была бледнолицая, типично английская луна, а тумана – нет, не было. Каждое утро Савву будило яркое солнце. Оно играло в прорези величественных портьер на огромном окне, из которого был виден Ла-Манш. Солнце играло на воде, в листве и на газонах, ничему и никому не отдавая предпочтения. А после обеда Савве не давали вздремнуть часок-другой яркие, как подсолнухи, женщины, играющие на лужайке на музыкальных инструментах, послушных им, как воспитанные мужчины. Трудно старому холостяку соснуть в раю хотя бы часок! Какой там сон, когда сигнал «Подъем»!
Мистер Гризли был с мистером Гвазавой на дружеской ноге. Собственно, они равноценно представляли два достойных профсоюза двух достойных, связанных не простыми, но прочными отношениями стран. Правда, спроси мистер Гризли Гвазаву, какой профсоюз представляет его гость, думаю, сударь бы слегка замялся. Но не это было главным. Главным было то, что уставы обоих профсоюзов не были чрезмерно отягощены пуританскими заповедями. Мистер Гризли был много старше мистера Гвазавы, но достойно сохранил в своем бренном теле присутствие добротного британского духа. Попади он на глаза Киплингу, несколько славных строк обессмертили бы его не менее славное имя. Но, хотя мистер Гризли и чувствовал себя по-прежнему молодым и здоровым, жизненный путь его, независимо от его желания, уже приблизился к берегу неведомой туманной реки, уносящей в невозвратные дали. Тем охотнее он разделял с жадным до удовольствий кентавром из туманной России последние свои прихоти и услады. Кентавром он прозвал Савву, так и не сумев понять, кто же тот на самом деле: русский, грузин, джигит, мулат, метис, кавказец, горец или просто «советик». И когда Савва с пафосом говорил ему о гении Пушкина, видимо проводя некую аналогию с собой, у мистера Гризли почему-то и всплыло в голове это дикое, непонятное, такое далекое от всего уклада его жизни, но красивое и гордое слово «кентавр». «В России, наверное, все такие, – подумал мистер Гризли, – там бескрайние ковыльные степи и кентавры, а на них с неба, как кучерявый бог, смотрит Пушкин». Расставались мистер Гризли с мистером Гвазавой друзьями, заверили друг друга в искренней и взаимной симпатии и обещали наезжать друг к другу, как только позволят дела или по срочному вызову.
Когда Савва летел в Москву, ему предложили виски, от которого он со вздохом отказался, подложили подушечку, разули и укрыли ноги шерстяным клетчатым пледом. Савва закрыл глаза и, под мерный гул двигателей, в полудреме, позволил себе задуматься о себе и своем стиле жизни. В голове его нарисовался какой-то фантастический замок, среди дубов и вязов, на прозрачном озере, чистые аллеи, широкая поляна, кусты сирени и роз… Белокурая женщина вдали под солнцем, вся в голубом, нарядные девочки в шляпках с бантами и гольфиках с бонбончиками… А потом семейный портрет в золотом интерьере: он сам, белокурая женщина – его жена, девочки погодки, тесть с твердым подбородком и твердыми процентами в английском банке, чуть легкомысленная теща, на несколько лет, как положено, моложе своего зятя…
«Пора менять жилище», – решил он, сходя по трапу и глядя на черные и блестящие каменные, стеклянные и бетонные стены, полосы, дорожки и башни огромного аэропорта в золотых огнях. Быстренько и с прибылью решив в Москве московские, а значит, денежные дела, Гвазава не стал задерживаться в столице, где вопреки Веспасиану все-таки пахло довольно дурно, особенно после свежего воздуха Ла-Манша, и полетел на ближайшем рейсе в Воложилин.
За бортом была воложилинская полночь. Аэропорт был, конечно же, не такая громадина, как Шереметьево, и, понятно, гораздо меньше «Хитроу». И хотя ночь так же мокро блестела черным и золотым, это был все же другой, провинциальный, провинциальный даже в России, блеск. Но когда такси въехало в черту города, Савва почувствовал, что приехал домой, и успокоился.
Едва зайдя в дом, Савва бросил чемодан у порога и сразу же, не переодеваясь, взял с полки подборку рекламных газет и журналов, сел в кресло и аккуратно отметил красной ручкой телефоны риэлтерских служб и компаний по продаже недвижимости. Утром он проснулся рано, и утро не изменило его решимости сменить свой стиль жизни на более достойный. Сколько можно, в самом деле, жить в двадцати семи бетонных квадратах, в подъезде, где пахнет нищетой и общественным туалетом? Вообще-то правильно: деньги не пахнут, пахнет их отсутствие. Даже иногда воняет. И хватит снимать на вечер молоденьких пластиковых пустышек. Пора обзаводиться настоящим домом. Вон уже седина виски тронула.
В лучшем агентстве города, по имени первого известного крупного жулика, «Меркурий», Савву сразу же предупредили о том, что цены у них несколько выше рыночных, но зато гарантирован полный сервис. Тут же составили договор, по которому «Меркурий» обязался подобрать ему искомый коттедж, а Савва обязался не пользоваться больше ничьими услугами. Расчет наличными, «колдунчиками», два процента скидка.
Собственно, только в агентстве и нарисовался окончательный вид потребного Гвазаве жилья: двухэтажный коттедж в пригороде, недалеко от дороги, но и не на самой автотрассе, с подземным гаражом, сауной, бильярдом, лесом за спиной и озером перед глазами, газонами, без всяких этих «культурных» посадок и теплиц, и чтоб из окон не было видно, как в соседних хижинах пьют чай или водку и наскоро занимаются любовью, а по тесным участкам шарашатся оборванцы в спортивных костюмах и телогрейках.
Шефом оказалась старинная знакомая по институту Сливинского, которую он не видел уже много лет. «Да, надо же, столько лет!» – оба воскликнули они, когда остались одни, и засмеялись. Обменявшись новостями, они расстались, оба довольные таким приятным началом трудового дня. Виктория обещала подобрать достойный объект не позднее середины следующей недели.
Савва в хорошем настроении катил по загородному шоссе и по-новому приглядывался к коттеджам, выросшим по обе стороны автострады за последние годы, как грибы. Нет, это он правильно сделал, что решил взять дом в пригороде и не на трассе. Так и спокойнее будет, и чище. С Викторией они поговорили об общих знакомых. Их оказалось на удивление много. Фаина Сливинская в институте больше не работала.
– А, ну она же еще тогда ушла, как только Буров заступил, – вспомнила Вика.
Фаина вроде как защитилась и читает лекции по разным школам и университетам. Одна, не замужем?
– Наверное, одна, – засмеялась Виктория. – Во всяком случае, фамилию не сменила.
– Фамилия – ее гордость, – сказал Савва и почувствовал, как защемило сердце.
Гвазава свернул на проселочную дорогу, проехал метров пятьдесят и остановил машину. Вылез из нее и уселся неподалеку на поваленную березу. Вдали неслышно текла река, за спиной с шипением проносились машины. Кто-то прогудел встречному. Встречный отозвался. Савва не слышал этого. Он весь оказался во власти воспоминаний. И из огромного прошлого, населенного, как детдом, одинокими индивидами, Савва явственно видел одно лицо – лицо Фаины. Она была на переднем плане полотна его воспоминаний, как центральный образ в картинах Ильи Глазунова. И вдруг он почувствовал поистине мистический ужас. Ведь в последних его снах та белокурая красивая женщина была она – Фаина! Савву охватил озноб. Он поднялся с березы, сел в «Чероки», круто развернулся и с бешеной скоростью поехал в город. Дома он выпил коньяка и немного согрелся. Достал альбом со старыми черно-белыми фотографиями и долго разглядывал несколько карточек, на которых была Фаина – с ним, с Мурловым, с Филологом, со своим отцом. Одной ее нигде не было. «Она может существовать только в диполе с мужчиной, противоположного, но равного ей по заряду, – подумал он. – Интересно, где она сейчас? И жив ли Сливинский? Бедняга…» Гвазава как-то по-новому взглянул на академика, и тот представился ему уже не всемирно известным ученым, а обыкновенным дальнобойщиком, каких много на продуваемых всеми ветрами северных трассах. Зашибает деньгу, возит чьи-то грузы. Вот тебе и вся механика, академик! В нем и тогда была какая-то обреченность: вон какие складки у рта. И в глазах робость, что ли… Впрочем, Савва погрешил против истины: такие пронзительные и умные глаза бывают только у победителей.
Лет пять назад Савва столкнулся с Фаиной нос к носу. Помнится, был праздник, День города. А ведь она была тогда одна и он один. Это на Дне-то города! А что ж они тогда разошлись? Савва вспомнил, как они стояли возле какой-то серой скучной стены без окон, возле какой-то урны, трепались ни о чем и разошлись, не обменявшись даже телефонами. И непонятно, были они тогда рады этой неожиданной встрече или нет? Она была все так же великолепна, не обрюзгла и не погрубела, а годы нанесли на нее непонятно откуда взявшийся прямо-таки аристократический налет. «Это, наверное, оттого, что никогда не была замужем», – подумал Гвазава. А ведь он тогда, сразу после встречи, пошел на больничный – первый раз в жизни. «Да, мне каждая встреча с ней дается тяжело, – вынужден был сознаться самому себе Гвазава. – Вот и сейчас – и не видел, а только подумал о ней – уже сердце колотится и места себе не нахожу. Как романтически влюбленный семиклассник. Интересно, сколько ей сейчас лет? Она на семь лет моложе меня. Неужели сорок два? Господи, как бежит время! Куда бежит, от кого бежит, кого догоняет? Тогда ей было тридцать семь, а выглядела на двадцать».
Савва приготовил себе яичницу с ветчиной, машинально поел и продолжал сидеть за кухонным столом, глядя в окно и собирая со стола на указательный палец хлебные крошки. «А Фаина-то, наверное, дура, – подумал он. – Умные быстро старятся».
Через неделю, как и обещала Виктория, ему нашли приличный коттедж, полностью отвечающий его запросам.
***
Когда Савва переехал в коттедж и несколько пообвыкся в нем, отметил новоселье и уже пригласил на ужин по очереди несколько знакомых женщин и одну новенькую, секретаршу компаньона, он, сидя вечером в кресле-качалке и глядя на золотые дали заката, вдруг понял, что коттедж этот один к одному воспроизводит коттедж Сливинского. Он даже содрогнулся от этой мысли. Да, все было в этом коттедже так, как он хотел: пахло хорошими духами, хорошим табаком, хорошим кофе, хорошим шоколадом, хорошим коньяком, хорошими новыми книгами, даже хорошими манерами, – но это были запахи бара, и не было запаха дома, о котором он недавно стал думать. С другой стороны, надо знать запах, чтобы не спутать его с подделкой. А какой он, запах дома, кто ж его знает? Гвазава не знал, но смутно догадывался, что не такой во всяком случае, как в баре. Не было того, что было у Сливинских. А ведь их коттедж практически не был обжит ими, жили они вдвоем в таких огромных апартаментах, и то больше ночевали, а вот запах их дома до сих пор щекотит ноздри своим неповторимым ароматом, который Савва трансформировал словом «уют».
Савва жил в коттедже уже десятый месяц. Начиналось лето, и оно сулило тепло и отдых, хотя бы от лишней, сковывающей тело одежды. Он перестал думать о прошлом и силой изгонял непрошеные мысли, и в этом единоборстве с самим собой терял много сил. Но настоящее, нет-нет, да и блеснет какой-нибудь черточкой и напомнит то невозвратное прошлое, которое не принадлежит уже никому. То блеснет по-особому озеро на закате, то беззвучно прочертит в ясном небе траекторию ласточка, то воздух пахнет чем-то знакомым, то почудится вдруг, что вон там, у озера, стоит под ветлами белокурая женщина в голубом платье… И то, о чем мечтал он в преддверии своих перемен – как будет выходить он утром на веранду, бежать по мягкой тропинке, на которую свешивается с обеих сторон высокая трава, с восторгом глядеть на восход солнца и благодарить Бога за его щедрость, опрокидывать на разгоряченное тело ведро с холодной водой и вообще вести исключительно здоровый образ жизни, не думать ни о ком плохо и не делать никому ничего дурного, и даже не плевать и не сморкать на землю, как советует Порфирий Иванов, как советуют все мудрецы с того света (как говорила когда-то юная Фаина, ссылаясь на Сократа, стремись быть хорошим человеком, ибо самое священное – это хороший человек, а самое скверное – человек дурной), вечером качаться в кресле-качалке, глядеть на спокойный закат и прощаться с ним до завтра и в то же время навсегда, смотреть, как синеет и чернеет частокол леса за озером, заходить в дом и делать ритуальный круг по холлу на велосипеде, брать с малахитового столика португальский ликер и наслаждаться несколькими его каплями, всего несколькими каплями, раскусывать орешки или грильяж в шоколаде, и из дома сего отойти в дом свой вечный, – ничего этого не хотелось, абсолютно ничего!
***
А с чего вы, собственно, взяли, что этого хотелось Савве? Это и не его вовсе желания были, а так, кое-какие соображения Автора. Из всей этой муры Гвазаву привлекали по-настоящему лишь коттедж, женщина в коттедже, ну и ликер с орешками – к женщине в коттедже. Да и потом, прав Гоголь: «…видно, и Чичиковы, на несколько минут в жизни, обращаются в поэтов…» Вот только минут этих мало – из-за того, что сердчишку очень уж тяжело в такие минуты…
***
И как-то так само собой получилось, что перед Саввой из всех жизненных вопросов остался всего один, наиболее жизненный и, значит, чисто схоластический: что первично – Фаина или коттедж, то есть коттедж куплен для того, чтобы в него можно было привести Фаину, или для Фаины, и только для нее одной, куплен коттедж. Но вопрос этот никак не решался, а ночной скрип и ночное молчание дома, одиночество и ежедневный закат – стали невыносимы. И словно из той дурацкой юности досада пришла и с нею злость, что вот она, Фаина, рядом, а не откусишь. Савва стал тяготиться женским обществом и по воскресеньям перестал бриться. Сидит целый день напротив окна, рассеянно слушает местное радио и тянет, тянет джин, ликер, бренди, только не водку – он терпеть ее не может, это доступное забвение горькой жизни.
«На пирсе тихо в час ночной. Тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины идет домой», – поет Юрий Гуляев из глубины полузабытых советских лет.
«Дом – это место, где уют и где от тебя никто ничего не требует. Это крепость, где ты полный хозяин», – думает Гвазава.
Давно уже ночь, давно уже смолкло местное радио, работающее до полуночи, а Гвазава все сидит, глядит из кромешной темноты в кромешную же темноту, его пустота, по закону сообщающихся сосудов, соединяется с пустотой вне его, приближаясь к абсолютной пустоте, он цедит виски и бормочет:
– На пирсе тихо в час ночной… На пирсе тихо в час… На пирсе тихо… На пирсе… На…
На длинном-длинном пирсе, конец которого теряется в ночи, тихо-тихо… Слева – громадная черная туша моря. Шкура его искрится в темноте. Морское чудовище дышит во сне и еле слышно ворочается. Об этом движении скорее догадываешься, чем слышишь его. Как-то бочком выплывает из-за облака луна и заливает пустынный пирс голубовато-белым казенным светом, и на пустынном пирсе, на его блестящей в этом свете глади, под чудом уцелевшей лампочкой, стоит стройная, красивая и такая желанная женщина, с золотыми волосами и в голубом платье, и глаза ее сияют, глаза у нее мерцают, и полны глаза ее крупными, не пролитыми до конца слезами.
– А я усталая подлодка из глубины иду домой, – бормочет Гвазава. – Из глубины иду домой… Иду домой… Домой… Ой…
***
Или ему только кажется, что это происходит с ним? А с кем же еще, господа? Другого-то просто нет. Ни Филолога нет, ни Мурлова. А с кем-то ведь должна происходить вся эта чертовщина?
***
С неба в море сыплются то ли искры, то ли звезды, они неслышно ударяются о шкуру черного зверя, перекатываются по ней и гаснут в ее складках и густой шерсти. Эти же искры падают Фаине в глаза, устремленные к небу, и искры эти острые и ледяные, и смертельным холодом веет от них.







