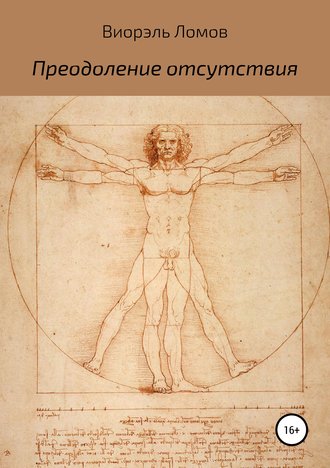
Виорэль Михайлович Ломов
Преодоление отсутствия
Но почему, почему – я спрашиваю – люди живут рядом десятки лет и не чувствуют друг к другу и сотой доли того светлого пронзительного чувства, которое вспыхивает однажды и освещает всю жизнь, освещает пространство и время ее. Почему люди так скупы на ежедневное тепло и вдруг в мгновение, как вулкан, извергают весь жар души, губя и себя, и других, почему они чувствуют себя несчастными в счастье и становятся счастливыми, когда счастье покидает их навсегда?
Три недели сладкого греха – это бесконечность, которую не сведешь ни к слову, ни к знаку, ни к математическому символу. И нет ни правил, ни формулы, ни кудесника, который решился бы сделать это.
Три недели любви могут быть больше ста лет благополучной жизни, но они меньше двух кратких отрезков: встречи и расставания.
К встрече – по неведомым тропам бессчетное число лет и веков – вела влюбленных судьба, а расставание – на такой же срок их разлучило.
Три недели, как бутон кремовой розы с каплей росы на листочке – а может, то застыла упавшая женская слеза?
Остался один день. Завтра она улетает. Через два дня его самолет. Почему они не летят вместе? Ни она, ни он не знают. Но так получилось. Три недели промелькнули, как три минуты. И давит, давит грудь от неминуемости разлуки.
– Я уезжаю из Воложилина. Так надо, Димочка. Такой уж наш род Сливинских – перекати-поле. От Участи (так, кажется, у твоих греков?) не уйдешь.
«Откуда она знает про моих греков? Я ведь никогда не говорил ей про роман».
– Я уеду, уеду, Дима. У тебя семья. Нет-нет, ничего не говори. Я не приму твоих жертв. Нет, я могу погубить, но я не могу разрушить. Ты, если захочешь, будешь приезжать ко мне. Я скоро выйду замуж. Но это не помешает нам, конечно же, нет, ведь так?
Глаза ее блестели от слез. Мурлов держал ее руки в своих. Ладони вспотели. Обоих била дрожь.
– Я уеду с тобой!
– Молчи! – почти крикнула Фаина. – Будь мужчиной! У тебя семья. Это святое для Бога. Это у меня ничего, никого, никогда, кроме тебя. Я благодарна тебе. Будь добр и великодушен – ведь ты добр и великодушен? – позволь мне в моем выборе быть свободной. Я разлучаюсь с тобой от любви к тебе. Я, может быть, дура. Но лет через пятнадцать, когда у тебя подрастут дети, когда ты станешь безразличен своей жене, когда ты станешь дедом, мы с тобой купим на озере маленький, как этот, домик. У нас будет лодка, у нас будет яблоневый сад, несколько грядок с редиской и луком, у нас только никогда не будет телевизора и газет, мы оба будем на пенсии, ты будешь на заре уходить на рыбалку, а потом приходить к чаю. А я буду ждать тебя каждый раз, как из другого города или из другой жизни. У нас будет самовар на столе под раскидистой яблоней. А в чашке будут баранки с маком. А как пахнет вишневое варенье! Мы будем жить вдвоем, как один человек, тихо, мирно, любовно. Читать хорошие книги про девятнадцатый век, разговаривать, молчать, смотреть друг на друга и гулять вдоль реки, по лугу, гулять, гулять…
Фаина заплакала. Мурлов обнял ее. Сердце его разрывалось, но он не мог найти ни одного слова ей в утешение. Да и какие слова утешат там, где утешения нет! Мыслимо ли перекинуть мост через бескрайнюю пропасть?
– Ты только обещай мне одно, одно обещай: не уходи из моей жизни, не уходи молча. Не мучь меня молчанием. Пиши. Звони. Но только не на праздники, только не открытки. Увидишь кремовую розу – напиши. Услышишь ночной шорох машины, как сейчас, – позвони. Вспомнишь меня – пожелай мне здоровья. Приснюсь я тебе вся в слезах – дай телеграмму, что жив ты, существуешь, что напрасно лью слезы я.
Ночь они не сомкнули глаз. Стрелки часов бешено вращались, будто их крутили не пружины и колесики, а два сердца, закрученные до предела.
Вот перед нею пять человек, четыре, три. Ее растерянный недоуменный взгляд. Слезы в огромных глазах. И нечем Мурлову дышать. Она зашла в накопитель последней. Дверь закрылась. Пассажиров повели к самолету.
Мурлов поймал такси и вернулся в город. Народу было много, все бестолково толкались, раздражали и были непонятны, как слова чужого языка.
Все напоминало о ней. И рынок, и магазины, и кафе, и мост через реку, и скамейки в аллее, и воздух, и море, и солнце, и сам он, переполненный воспоминаниями и горечью (или все-таки сладостью?) разлуки. Нечем, нечем было дышать. Без Фаины не было воздуху. Не кислород нам нужен в воздухе, не кислород, а присутствие любимого человека. Мурлов заскочил на почту. Дал телеграмму на адрес Раисы: «Умоляю Раиса задержи дуру уговори ней моя жизнь Мурлов». Потом смотался в аэропорт, умолял во всех кассах сменить ему билет на завтра, но у него не было, не оставалось четвертного, чтобы решить эту проблему без надрыва.
– У вас же, гражданин, послезавтра самолет. Заверенной телеграммы нет?
– Что? – хрипло спросил Мурлов. – Какой телеграммы?
– Заверенной телеграммы о смерти близкого человека.
Мурлов медленно побрел, куда глаза глядят. И мысли его были сплошь заверенные телеграммы о собственной смерти.
Глава 35. В которой все получилось по-дурацки
Мурлов возбужденно ходил по квартире, возился с детьми, ему страшно было остаться с Наташей наедине. И он с досадой увидел по ее лицу, что она догадалась об этом. С юга он ей не писал, не звонил, не давал телеграмм. И вообще даже не сказал, куда поехал и на сколько. Конечно, это было жестоко с его стороны. Последний год между ними как кошка пробежала, но они жили сносно, без сцен и аффектов, доживали свой век. У основного населения вообще прописка в кошкином дому, оттого и собачатся постоянно. Он, собственно, так и сказал ей, когда улетал, мол, куда – не знаю пока, случится что – сообщат, а вернусь – когда вернусь. Она его встретила (это было заметно) через силу радостной улыбкой и в этой деланной радости были и тревога, и страдание, и раздражение. Может быть, и остатки любви. Все может быть.
– Почему не писал? Трудно было позвонить?
Мурлов отшутился, что спорт, вино и домино, ну и, понятно, женщины – не оставили ему ни одной свободной минуты. Но по ее лицу и по голосу было видно, что она что-то знает и выпытывает у него признание. Его сначала охватила ярость, словно она посягала на его свободу, но потом он резонно заключил, что подобную галиматью мог придумать только он сам, загнанный в угол собственной ложью, а вернее – непризнанием, непризнанием того факта, что он всю свою жизнь строил, строил дом, построил его, привел в него жену, наплодил в нем детей, наполнил его под самую завязку ложью, а вывеску повесил: «Правда». Чтобы все видели и чтобы было ему чем гордиться.
Он с содроганием ждал вечера, когда дети лягут спать и они с Наташей останутся одни, как на дуэли. Ведь они все-таки пока муж и жена, и дуэль эта самая обычная и распространенная и, как правило, без смертельных исходов – семейная.
И вдруг с удивлением, а потом с радостью, Мурлов понял, почувствовал, что он по-прежнему любит ее, что она так же близка и желанна ему, как была близка и желанна всегда, даже в этот последний год с облаками и туманами, с тех самых пор, как он познакомился с феей замерзших вод. И что-то новое, более глубокое, появилось в его душе, будто открылась новая, ранее не известная дверца, которая вела в уютную комнату, где все дышало покоем. Но стоило подумать ему о Фаине, как боль пронзила правое плечо, точно там Фаина поставила свою золотую заветную печать. «Только переменное бывает постоянным» – так, кажется, говорил когда-то один Фаинин приятель. Царствие ему небесное. Или – «только постоянное бывает переменным»? Да не все ли равно! Главное – бывает.
Остались одни. Наташа молча ходила по спальне. Присела на край кровати и заплакала, ничего не сказав ему, ни о чем не спросив. Она знала все. Ей рассказали с ненужными подробностями обо всем соседи, очевидцы похождений мужа. Они, оказывается, жили в том же райончике, где был домик, маленький, как спичечный коробок, и где, как спички, сгорели Фаина и Мурлов. И даже как-то поздоровались с Мурловым, но он не обратил на них внимания, поскольку они были из другой жизни. «Уж о-очень у него были счастливые глаза, чтобы обращать на нас внимание», – с удовольствием поделились они своими наблюдениями. Простейшие так естественно делятся… Мало того, соседка знала даже Фаину, так как работала в институте, где преподавала Фаина, в снабжении. «Это такая девка – оторви и брось. Трех мужиков заездила. А тоже мне – дочь академика! Да и того, говорят, на север сослали, грунт долбить».
Наташа ждала, когда Дима расскажет ей все сам. «Потом. Как-нибудь потом, – думал Мурлов. – Только не сейчас. Нет-нет, только не сейчас». Замечено, скорость признания зависит от степени угрызений совести, но никто еще не преодолел звуковой барьер.
Наташа плакала, отвернувшись к стене. Он осторожно взял ее за плечо. Она повернулась к нему, уткнулась ему в грудь, и он почувствовал, что все ее лицо мокро от слез. Он обнял ее, стал гладить и бормотать:
– Ничего, ничего. Все будет хорошо. Все начнем сначала.
Утром у них были покусанные губы.
– Что ты наделал, – грустно улыбнулась Наташа. – Смотри, какой синяк на шее оставил. Как маленький.
Она уже решила жить дальше, как ни в чем не бывало: скажет – хорошо, а не скажет – может, еще и лучше.
«Как же я пойду к Фаине? Что скажу Наташе? Димке? Что скажу себе? Кого я люблю? С кем я хочу быть? Кому я принесу счастье, а кому горе?»
Днем он позвонил на работу Раисе. Та сообщила ему, что Фаина подписала обходной и завтра в три часа дает отходную.
– Приходи. Там будет наш маленький бабс-клуб. Суббота не занята?
– В качестве кого приходить?
– В качестве себя, дурень, – бросила Раиса трубку.
«Как же мне вырваться завтра? – соображал Мурлов. Ему не хотелось рыть глубже яму лжи и он так ничего и не придумал. – Ладно, утро вечера мудренее. Завтра видно будет».
Наташа успокоилась совершенно. Ей сначала было страшно, что с ней повторится та же история, что и много лет назад с Толей: соберется молчком и поминай как звали. «Какие они оба одинаковые – и Толя, и Дима, – поразилась она. И вспомнила, что оба они явились к ней в образе двух поленьев. – Но из таких буратин не наделаешь. Инструмента для них нет».
Мурлов долго лежал без сна. Утром он признался во всем жене и сказал, что Фаина уезжает. Навсегда уезжает, в другой город, и он не может не пойти проводить ее. Навсегда. Наташа поцеловала его в щеку и сказала искренне:
– Спасибо, Дима. Хотя мне и очень больно. Конечно же, иди… Проводи ее. Но… Не потеряй себя.
Мурлов с удивлением глядел на жену. Ему всегда женщины казались в эмоциональном проявлении проще мужчин, односложнее, что ли, исключая, разумеется, некоторых актрис и Фаину. Но столько всего было в Наташиных глазах, голосе, осанке, руках, нижней губе – казалось, каждая клеточка ее тела, каждая нота ее души живет одновременно разными жизнями – и все в них: и счастье, и горе, и гордость, и даже радость, и страдание. Вот только плечи – чувствовалось, что на них лежит большой груз, тяжкий груз, которому нет имени в простом языке.
Мурлов с тяжелым сердцем пошел на проводы. Как на похороны, мелькнуло у него в голове. Было уже десять минут четвертого. У подъезда Мурлова встретила Раиса.
– Я пошла звонить тебе. Телефон у Файки не работает. Ты что, с ума сошел? Где тебя носит? На нее страшно смотреть.
Мурлов влетел по лестнице на четвертый этаж. Позвонил. Открыла Фаина. Подошла запыхавшаяся Раиса.
– Фу ты, черт! За тобой не угонишься. Прямо на крыльях любви! Проходи, чего встал.
Они не отреагировали на приглашение Раисы. Спустились вниз, зашли на школьный двор и сели на скамейку. Фаина потерянно глядела по сторонам.
– Дышать нечем, – сказала она. – Пойдем, я валидол возьму, что ли.
– У меня есть. На.
– Как дома?
– Что?
– Не притворяйся. Дома плохо?
– Да уж…
– Вот и все. Завтра Райкин муж отвезет меня в аэропорт и – тю-тю.
– Я с тобой.
– Не надо шутить, Димочка.
– Я не шучу.
Фаина ничего не сказала. И Мурлов с облегчением и болью понял, что теперь-то уж точно все и к старому возврата нет. «Какой же я подлец, – думал он. – Какая же я сволочь!» И тут же явственно услышал ее голос:
– Нет, Димочка. Просто поздно. Поздно, мой милый.
Мурлов пожал плечами:
– Я приду в аэропорт.
– Не опоздай.
– Зачем ты так?
– Как?
Фаина смотрела на него, и в ее зеленых глазах была вечно живая насмешка. Пропал. Пропал навсегда.
– Колдунья ты, Фаина. Ведьма.
Фаина расхохоталась:
– Сожги меня.
А вечером, когда все разошлись, она устроилась в кресле, как тогда в Москве, свалила на пол свои любимые девичьи книги, лишившие ее счастья, которые пока оставляла здесь вместе с вещами, и задумалась. Как в юности все было красиво. Какая роскошная теоретическая модель любви! Соломон утверждает, что блудница – это глубокая пропасть. Не уточняет только – для кого: для себя или для мужчин. Конечно же, для себя. Мужчины и так ползают по дну пропасти. Куда им глубже?
Всю ночь Фаина провела в полудреме, полуяви, получтении. Пила кофе, пила коньяк, пила разные таблетки, смотрела в окно. Вспоминала белую птицу из той светлой ночи, когда было страшно одиноко и охватывала сладостная жуть оттого, что вся жизнь впереди… Слушала далекие гудки, вносившие в душу дополнительную тревогу и успокоение одновременно.
Будто занавес в театре открылся. На зеленом холме под синим небом стоит серый монастырь с маленькими черными окнами наверху. Слышится красивый мужской хор. Из окна смотрит мужчина в черкеске и еще чем-то национальном. Внизу по тропинке идет девушка, хорошенькая, упругая, тело южное, гладкое, загорелое, в соломенной шляпке, сандалиях, длинной легкой юбке и с корзинкой на сгибе локтя. Идет свободно, раскованно, беззаботно, виляя всем телом. Мужчина в окне смотрит на нее сверху, провожает взглядом, свисает из окна всем туловищем. Вот она дошла до поворота, а там вроде горячий пляж и море, и она отбрасывает корзинку в одну сторону, шляпку в другую… Небрежно скинула юбку и взмахнула ею, как флагом… Мужчина, вытянувшись во всю длину, вывалился из окна. Девушка повернула радостное красивое лицо и помахала рукой…
Как легко было во сне! Фаина вышла на балкон. Солнце заливало перекресток, старые тополя, траву, асфальт. Фаина впервые уловила поразительное сходство шума листвы с легким морским прибоем, а блеск и игру света в кронах деревьев – с блеском и игрой света на морской поверхности. У Природы всего несколько звуков и несколько красок. И в шуме моря, и в шуме леса, и в шуме огня, и в шуме сползающего песка, и в шуме замирающего сердца, и в шуме ветра в чистом поле, и в шуме восьми рядов автомобилей на виадуке – один и тот же звук, который не заглушить ничем, как бы ни был он тих и далек, и звук этот разлагается на столько материальных составляющих, сколько их есть в Природе. Он, этот звук, и создает истинное многомерное пространство мира, которым распоряжается по своей прихоти время. Так говорил как-то Мурлов. Так же и свет молнии, озарения, любви, внезапной смерти – один, и нет у него цвета и протяженности во времени. Она сняла трубку. Телефон работал. Значит, так надо. Как у Грина. Она набрала номер.
– Да, – глухо раздалось, как с того света.
– Это я. Приезжай.
И Фаина тихо положила трубку. Через час Мурлов был у нее.
– Хочешь чаю? А кофе?
И она – дура! дура! дура! – вместо того, чтобы сказать ему: «Что же ты! Это же я, твоя судьба, твой день, твоя ночь, твоя жизнь», – вместо этого указала на зеленую листву в окне и с улыбкой спросила:
– Правда, похоже на море?
И небо было поразительной чистоты и голубизны, и странно было, что могли в этот миг плыть в голове облака сомнений и печали.
– Как похоже на море, Димочка, – шептала Фаина, но он ее не слышал, так как уже был вечер, и он ушел, ушел от нее навсегда.
Истинно сказано: мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. И Фаине почудилось, что алгоритм судьбы, алгоритм счастья – существует, она слышала его, слышала в том нескончаемом болеро. Надо только с каждым разом все сильнее и сильнее бить в барабан судьбы, пока он не лопнет…
Ах, как красива теоретическая модель любви! Обстоятельства так возвышенны, а люди так мелки… Правы французы. Надо почитать Флобера. Флобера надо почитать. На французском. Пока есть время. И это все пыль, пыль, пыль…
***
По трассе желтый «Москвич» обгонял красный, а впереди медленно шла корова. Оба «Москвича» шли под девяносто. Красный вывернул налево, а желтый не успел даже притормозить, влетел на обочине в рыхлую землю и по диагонали ушел под откос. В окошки или в двери, непонятно куда, вылетели мужчина и женщина – оба были не пристегнуты ремнями. Вырвало бензобак, аккумулятор продрал капот и улетел метров за сорок. Женщина держалась за шею – ей повезло, похоже, не успела ничего даже сообразить. А у мужчины лицо было, как у покойника, синее, глаза стеклянные. Его о чем-то спрашивали, но он, не понимая, бегал, как придавленный муравей, пока его не усадили силой и не заставили плюнуть – крови не было. А красный «Москвич» так и не остановился, его задержали километрах в пятидесяти от места происшествия.
Фаина прислонилась к машине, ее тошнило и кружилась голова. На земле сидел Райкин муж.
– Как ты? – спросила она его. Он не расслышал, наверное. – Как по-дурацки все получилось, – снова сказала она. – Это судьба, Боря. Судьба. Раз я жива, что мне еще надо? Куда я еду? Зачем? Господи, какие глупости делаешь, когда забываешь, что под руку с тобой ходит смерть.
Фаина вдруг рассмеялась. Она вспомнила свой радостный сон, как девушка махала юбкой. Вспомнила, как однажды перепрыгивала через лужу, а в трусиках лопнула резинка. Это был единственный случай, когда на ней было отечественное белье. Поправлять их было бессмысленно, и они спускались все ниже и ниже. Тогда она, покачав бедрами, сбросила их с себя, переступила одной ногой, а другой отшвырнула в сторону, метко попав в майора милиции. Тот долго стоял зеленым столбом возле афиши…
– Не расстраивайся, Борис Матвеевич, у меня есть сбережения. Починим мы твою колымагу. Главное, живы оба. Знаешь, это надо обмыть. Никуда я не поеду. Как это покороче – на хрена?
Глава 36. Мертвые листья
Когда вокруг голо, черно и сыро, на душе сухо и светло не будет, даже в день получки. Особенно если тебе за пятьдесят. Как ни глянешь в окно – осень, будь она неладна! Не та, что ох да ах, да золотые листья, а та, что эх да ох, да сопли с поясницей… Скорее бы зима.
Пришел Шалфеев, ночной дежурный, и аптека тут же опустела сама собой.
Янский проверил, все ли в порядке, закрыты ли сейфы, побарабанил по столу пальцами, рассеянно скользнул взглядом по небритому лицу Шалфеева, подумал – опять с Зинаидой разругался, и сказал, указывая на растворы:
– Тут вот надо смешать. Девчата опять раньше смотались.
Он заспешил в булочную, срезал дорогу и свернул в глухой неосвещенный переулок. В неверном свете луны, просочившемся сквозь плотные тучи, с трудом разглядел, что до закрытия еще десять минут. Успею, успокоил он себя. Чавкали под ногами редкие листья, им тоненько подпевал правый ботинок. Ни одной машины, ни одного встречного, будто все вымерло. Снова пошел дождь. Он и не шел, а висел в воздухе, как в горах. «Если сейчас ударит мороз, – подумал Янский, – я застыну в воздухе, как жук в каменном угле». Вот последний поворот. Дальше асфальт круто уходил вниз к реке и вливал свои черные густые воды с серебристыми медузами луж в Вологжу. Казалось, что река за городом поднимается по небосводу вверх, как по внутренней поверхности новогоднего шара, вливает свои воды в безграничный океан, который катит и катит черные воды на черные утесы и скалы, шумит вверху, рвет и разбрасывает облака и тучи, и проливает воду на эту дорогу, на этот асфальт…
Из мокрой тьмы проступило желтоватое пятно булочной. Фонарь брезжил сквозь паутину дождя, и оттого на лице было неприятное ощущение липкости. Янский взял хлеб и поспешил домой. Сто метров – и переулок тихо влился в Беговую улицу. И тут же прошипел по лужам, как утюг, автобус и кто-то громко засмеялся за спиной. И ветер глухо шумел, и фонари горели тускло, безрадостно.
У Янского был один физический изъян. С войны двенадцать лет прошло, а как захромал он после операции на ноге, так и хромает по сей день. И ладно бы просто хромал, тысячи людей хромают, а тут только ногой ступишь на землю, а она вдруг – дерг! – коленкой вперед, точно кто ее бьет сзади ладонью, и весь корпус судорожно приседает, а потом пружинисто выпрямляется. Нехорошо как-то получается. Смешно. И ведь всем не объяснишь, что это после ранения под Будапештом.
Есть люди, которые с яростным наслаждением суют вам в лицо культю или, приблизив свое лицо к вашему, скалят зубы, которых не тридцать два и даже не десять, а всего три и те гнилые. Им, бедным, больше нечего представить тем, у кого целы руки и зубы. Увечьями калек провидение предостерегает тех, кому еще есть что терять. Янский же стыдился своего дефекта, будто в нем было что-то постыдное. И чем хуже было у Янского настроение, тем заметнее проявлялся этот изъян. Вот и сейчас, ни с того ни с сего, коленка – вперед! Корпус резко – вниз! вверх! Просто прелесть. Как только язык не прикусил… Сзади цокали каблучки. Так и есть – женщина в клетчатом пальто, идет и улыбается. Опять проклятая! Вперед! Вниз! Вверх! С такой ногой только этот, как его, кривошипно-шатунный механизм создавать. Янский ссутулился и юркнул на тропинку к своему дому. Он снимал на окраине поселка дом за символическую плату у одной бабки, которую по причине своего медицинского образования пользовал, причем успешно. Бабуля на старости лет перебралась к шустрому дедку, своему соседу, а дом и кота Василия предоставила Янским еще лет пять назад. До этого Янские ютились в коммуналке втроем в пятнадцатиметровой комнате. Кот был привередливый, любил есть свежую теплую печенку, в чем ему постоянно в семействе Янских отказывали. Когда бабка заглядывала проведать квартиросъемщиков, Василий терся около нее и жаловался на этих жмотов Янских. С точки зрения Василия, его новых хозяев надо было каждый день тыкать мордами в их постные щи и ненавистную окрошку.
За спиной раздались шаги. Янский оглянулся. Женщина в клетку шла следом. Борис Алексеевич почувствовал смутное беспокойство, которое перешло в беспричинный страх. Страхи рождают привидения. Ну что ты будешь делать! Вдруг Янского бросило в жар, он понял, что свернул на чужую тропинку. Резко развернулся и чуть не бегом поспешил выскочить из тупика, в который сам себя загнал. Задел рукой женщину. Та уронила сумку.
– Ой, простите, ради Бога! – Янский нагнулся за сумкой и увидел знакомые глаза, которые боялся узнать.
– Боря, – сказала женщина, поднимая сумку.
Это была Вера. Это были ее глаза, ее голос, ее улыбка, ее забавное покусывание нижней губы в минуту волнения… Все было ее. Одно не могло быть ее – она сама. Но почему не могло? Чаще всего происходит то, что не должно было произойти.
Разговорились. Подошли к Вериному жилью. Вера снимала полдома на соседней улице, и странно, что они ни разу не встретились. Жилье как жилье, самое обыкновенное, в котором уютно и телу, и душе.
– Это мой сын. Боренька. Ему скоро двенадцать («Через четыре с половиной месяца», – уточнил Боренька). А это, Боренька, мой старый друг Борис Алексеевич. Я тебе рассказывала: Борис Алексеевич в сорок четвертом году спас меня от тифа. Он был тогда начальником госпиталя.
– А твоя мама спасла меня в сорок пятом, десятого мая, под Будапештом. Война уже кончилась, а взрывы еще нет.
– Помнишь, что творилось в ту ночь? Пальба, ракеты, крики, костры, мотоциклетки ревут за окном, танки. Я думала, конец, побьют нас всех. Думала, фрицы откуда-то прорвались. Лежу на койке в полном обмундировании, на табуретке пистолет, в руке пистолет. Думаю, просто не сдамся… Боренька, чай есть?
– Да, мам, только что с печки снял.
– Вот и чудесно, согреемся.
– Посиди, мам. Я соберу, – сказал сын.
Посидели чудесно, но мало. Час пролетел, как мгновение, как эти последние, после войны, десять, нет, двенадцать лет. Если только что мелькнувшие мгновения ничто по сравнению с тем, что было до них, у этих мгновений мерка одна – ноль. Борис Алексеевич, глядя на сына, остро почувствовал, как в сущности неправильно он жил. А вот дочка ни разу не сказала ему: «Посиди, пап. Я соберу».
– Ты меня не слушаешь? – донесся голос Веры.
– Нет, нет, я так…
– Ладно, Борис Алексеевич, неудобно, дома тебя заждались. Боренька, накинь пальто.
Они проводили Янского до перекрестка. Вера на прощание сказала:
– Теперь знаешь, где мы живем. Заходи. Будем рады. Так ведь?
– Так, – подтвердил сын. Ее сын, его сын, их сын!
Задумавшись, Янский брел домой. Он кожей чувствовал дуновение времени. Оно летело мимо него, он слышал его шум, он вдыхал его запах. Настоящее – это вечный ветерок, что шевелит волосы на голове, вечный момент превращения будущего в прошлое, это мясорубка, перемалывающая будущее, кусок за куском, в фарш прошлого. И из этого фарша потом историки готовят несъедобные котлеты.
Ну а дома было, как всегда и у всех, и все не так. Янский лежал на кровати без сна и думал о Вере. Какие у нее теплые глаза. Они со временем не стали холодней. Она, наверное, уже спит. Бродит одна по темному, теплому царству сна. И темно там, в этом царстве, и светло. Надо тоже уснуть и попасть туда же. Почему бы им не встретиться в том царстве. Встретились же они на войне. На войне все были открыты для всех и скрывали друг от друга истинные чувства. А тут наоборот, скрыты от всех и открыты друг другу. Надо уснуть…
Янский был прав. Если встречаться с любимыми, то только во сне, где нет двух разных внутренних миров, нет совершенно чужого внешнего мира, а есть один, в котором счастье. Тем более, когда ночь пала на город и мысли где змеями, где светляками или соловьями расползлись, разлетелись по мраку, по ночному жуткому и прекрасному саду сна, беспрепятственно делая то, для чего создала их природа.
***
Пятнадцать лет назад Янский, разумеется, нравился женщинам. В госпитале было мало здоровых мужиков, собственно, всего двое, он да его шофер, а он к тому же был еще и начальник. И хотя у него была «Эмка», на которой можно было бы уединяться двум парам в места, отмеченные на штабных картах как рощица, излучина реки и прочее, Янский был страшно далек от этого, причем сам не знал, почему. Ему было как-то совестно заниматься любовью среди страданий и смерти, хотя страдания и смерть невольно толкали к этому. Наверное, так.
Когда Вера заболела тифом и попала к нему в госпиталь, он обратил на нее внимания ровно столько, сколько обращал на всякого нового раненого или больного, собственно никакого. Поступившими занимался медперсонал. К больным он начинал присматриваться на второй-третий день, если, конечно, больного не надо было тут же класть на стол. Но когда через неделю после ее госпитализации, при очередном обходе, он просмотрел результаты анализов и, устало присев на стульчик возле раскладушки с больной, молча глядел на нее и даже не думал о том, что нет ни лекарств, ни покоя, ни льда, ни еды, ни воды, ни должного ухода, чтобы спасти ее, он подумал о том, что только чудо может спасти больную. Остались спирт и чудо. Не дай Бог перфорация, тогда… Он поймал себя на том, что ему очень жалко эту несчастную. Янский посмотрел, как зовут ее. Вера Сергеевна Нелепо. Да, нелепо, как все нелепо, Вера Сергеевна. И вдруг она открыла глаза и непостижимо ясно для ее состояния посмотрела ему в глаза, и что-то толкнуло его, и он понял, что чудо обязан сделать он. Как это непросто, знают старые врачи, которые провели не одну сотню дней и ночей в землянках, палатках и поездах. Правда, они не любят этого мистического слова «чудо».
Она не умерла. А потом стала карабкаться, карабкаться из засасывающего ее небытия, буквально как муравей из песчаной ямы, выкарабкалась и у нее пошло на поправку. Янский за несколько недель привязался к больной и проводил с ней свободные минуты своего короткого отдыха, который приходился на любое время суток. Если Вера Сергеевна спала, он сидел возле нее на стульчике и дремал; если она бодрствовала и не имела сил поддерживать беседу, он рассказывал ей о себе, о своем детстве, о своих привычках и причудах, о своей жене, которую никогда не понимал и которая никогда не понимала его, о растерянных за годы войны друзьях-товарищах, об институте. Словом, он «прописался» в изоляторе. Его «слабости», естественно, все потрафляли, и когда он заходил в палату, ему тут же приносили в обжигающей кружке бурый кипяток и давали какую-нибудь газету или листовку, чтобы он провел с выздоравливающей политбеседу. Он обычно сворачивал прессу в трубочку и шутя, но сильно, как по надоедливой мухе, хлопал трубочкой по лбу подносчику.
Когда Вера Сергеевна была расположена к беседе, то есть имела физические и душевные силы для того, чтобы произнести хоть несколько слов, Борис Алексеевич начинал говорить совершенно абстрактные вещи, удивляясь самому себе, – не о войне, не о болезнях и ранах, не о поэзии и любви, наконец, а так, непонятно о чем. И в это время был на душе его мир, которого они жаждали все, и не было и в помине никакой войны со всеми ее страданиями и нелепицей. Когда Вера уже достаточно окрепла, он просто молча сидел и слушал, как она тихо рассказывает о себе, и ему в эти минуты впервые не хотелось говорить самому, говорить прежде всего о себе и своих воззрениях на жизнь, убеждая прежде всего самого себя, что у него именно эти воззрения, а не какие-нибудь другие. Янский наивно полагал, несмотря на весь свой жизненный опыт, что кого-то интересуют его воззрения. Слово-то какое! Хотя в сущности это все такая лажа! Оказывается, мягкий женский голос так хорошо успокаивает. Три года не было такого покоя на душе. Закроешь глаза, и будто вовсе нет войны и этого госпиталя и этих ужасных ран. «То-то у нас лучшие хирурги в мире», – подумал неожиданно он.
– Вы меня не слушаете, Борис Алексеевич?
– Нет, нет, я так…
– Я же вижу, что не слушаете, – говорила она без всякой обиды и продолжала свое.
Вера долго держалась с ним холоднее, чем он того, по его мнению, заслуживал, прямо как со всеми. «Война», – этим словом она объясняла «зажатость» и «серость», как она говорила, всех своих чувств и то, что душа ее стала, как высушенный куриный пупок.
В соседней палате лежали тяжело раненые, собственно, почти все палаты были такие. Там то и дело заносили новеньких, уносили стареньких, заносили живых, выносили умерших, на своих ногах редко кто передвигался. Среди вновь поступивших был обгоревший танкист. Он лежал на кровати весь обожженный. Не стонал. Слезы текли от боли сами собой. Танкист умудрился разворочать надолбы, смял несколько пушек и ворвался на немецкие склады ГСМ, где устроил такой кошмар, что немцы подумали, будто наши стали наступать всем фронтом. Каким-то чудом он выбрался из этого огненного кошмара живой и смог довести танк, почти ничего не видя, до расположения наших частей. Из экипажа он выжил один. Янский рассказал о нем Вере Сергеевне. Она заглянула ему в глаза:







