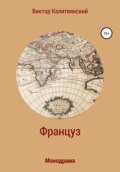Виктор Иванович Калитвянский
Собственная жена
Мало того, в ходе расследования к детективу безо всяких усилий с его стороны попали сведения еще о двух мужчинах, с которыми жена путалась раньше. Парень оказался широкой души человек: открыл мне глаза на мою собственную жен ещё шире – и за те же деньги.
Первым любовником жены был её коллега по работе, высокий интеллигент в тонких очках. Обычное дело, роман в трудовом коллективе.
Вторым – малоизвестный художник, здоровенный детина с бородищей и вытаращенными глазами. Даже на фотографии видно было, что он кобель из кобелей. Наверное, она подцепила его на какой-нибудь выставке или на вечерах высоколобой тусовки в её музее.
Ну, а нынешним возлюбленным жены оказался наш президент (я вспомнил её победительную улыбку, когда она выходила из офиса и садилась в «Ауди»). Они встречались по вторникам на Проспекте Мира (это была гостевая квартира нашей фирмы), проводили там от полутора до трех часов, а затем президент самолично (какая честь!) отвозил её домой, причём высаживал из машины за углом соседнего квартала.
Несколько недель я жил в каком-то странном состоянии.
Не то чтобы я пришел в отчаянье или задыхался от злобы – нет. Внешне, думаю, никто ничего не заметил. И не в том даже дело, что всплыли наружу измены жены, – и сейчас, с президентом в этой гостевой квартире, и раньше, с сослуживцем и художником. В конце концов, и я теперь изменял ей (хотя – с проститутками – можно ли считать изменой, вон еще Пушкин звал Дельвига от жены к девкам?). Нет, не в мужской обиде была главная причина моей подавленности.
Какая может быть мужская обида!
Ведь я мог взять сколько телу и душе угодно красивых и молоденьких (а знаете ли вы, какие бриллианты со всего бывшего Союза жмутся по московским подворотням и «Газелям» в ожидании клиентов?).
Кроме того, общение с дамами лёгкого поведения выявило неожиданный факт: что мужчина-то из меня вполне достойный, если не сказать сильнее. Я на такие подвиги плоти оказался способен, о каких жена моя не подозревала, когда вздыхала и морщилась на мои к ней подступы в постели. Воистину – никогда не знаешь, где найдешь и что потеряешь!
Нет, судари мои, вся штука в том, что тогда мне вдруг открылась суть моей жизни. Предназначение, другими словами.
Одни люди рождаются для того, чтобы наслаждаться жизнью: любить, добиваться успехов. А остальные – чтобы обеспечивать избранным этот процесс жизненаслаждения.
Я оказался из остальных – фантом, служебная функция, серый фон.
Вот, казалось бы, семья.
Дети, жена и всё такое прочее. Я всю жизнь работал, чтобы они, девочки, жили как можно лучше. И вот умри я сегодня – и что останется от меня? Неужели, всего лишь сожаление о том, что умер слишком рано, до того, как дочка стала на ноги? К тому же и у жены куча проблем – с одеждой, зубы надо вставлять, да и квартиру пора ремонтировать. Словом, куда ни кинь, всюду нужны бабки-денежки, а он – вздумал сыграть в ящик. Нет уж! Взялся за гуж, так тяни, тупой мерин – пока ноги носят, да мозги еще способны соображать свою бухгалтерскую науку!
Вот в таком настроении ума и сердца я и встретил самый страшный день моей жизни.
Я сидел в кегельбане, когда мне позвонили. В первый раз меня завёз в кегельбан безопасник, а потом я так пристрастился, что не мог без того, чтобы раз в неделю не поехать и не побросать шары.
Я загодя заказывал себе дорожку, приезжал один, брал себе минеральную без газа и штурмовал свой собственный рекорд, установленный мною в прошлый раз. Соседние дорожки всегда занимали компании: либо золотая молодежь, либо богатенькие мужички с расфуфыренными дамочками, которые ахали, охали, кричали «вау» и с интересом поглядывали на меня, одинокого. А я, испив глоток минеральной без газа, сосредоточенно швырял шар, и он сметал шеренгу кеглей, словно пушечное ядро крепостную стену.
Я как раз делал очередной глоток, когда мобильник загудел своей трелью-дрожью, а затем чужой голос произнес эти слова: что жена погибла, рядом с домом, возле перехода, старый «жигулёнок», несчастный случай…
Я ездил на опознание, отвечал на вопросы следователя, хлопотал о похоронах, встречал дочку из Лондона – и уже не отпускал от себя, потому что на ней лица не было вовсе, она ничего не соображала, вся серая от горя.
И вот мы стояли у гроба жены, плечо к плечу, рука об руку с дочкой. Жена лежала в гробу пронзительно красивая, а мы с дочкой молчали, не было слов, и лишь когда на кладбище опустили крышку на гроб, дочка закричала жалким раненым криком, так что у меня в груди прорезалась какая-то холодная трещина.
После похорон дочка осталась в Москве ещё на неделю, для чего пришлось отправить факс в Лондон.
Тут-то и начались чудеса в решете.
Оказалось, что наезд у перехода – совсем не случайное событие, наезд не был несчастным случаем. Выяснилось, что старый «жигуленок» угнан, сидевший за рулем – скрылся с места происшествия. Свидетели успели заметить только его одежду: он был одет в серое крапчатое пальто и серую же кепку.
Самое удивительное, что внешними приметами убийца смахивал на… трудно поверить! – на безопасника. Когда же у него в сейфе нашли кассету с записью сексуальных утех президента с моей женой, безопасник был арестован, а с президента отобрали подписку о невыезде.
Я, разумеется, дочку от всей этой грязи ограждал – как мог. Можно сказать, я её изолировал от внешнего мира и не мог дождаться, когда улетит в свой Лондон. От греха подальше, а там всё уляжется, боль утихнет, тогда и навидаемся, и нарадуемся, и нагорюемся. Оставался один день до её отъезда в Лондон, даже один вечер, потому что рано утром надо было ехать в аэропорт, и тут она выразила желание развеяться. Робко так попросила: погулять с подругами, по Москве. Напоследок. Она словно стыдилась этого своего желания и виновато на меня поглядывала.
Всё было хорошо, всё шло хорошо, – то есть я имею в виду, что у нас с дочкой всё было хорошо, мы как-то сблизились ещё больше в этих ужасных обстоятельствах, мы понимали один другого с какой-то нечеловеческой чувствительностью, с полуслова и полужеста, даже не глядя, спиной и затылком.
И вот дочка пошла погулять, попрощаться с Москвой.
Она вернулась в шестом часу и сразу прошла к себе.
Мне как-то сделалось нехорошо, неуютно.
Я почувствовал неладное, но пытался себя успокоить: дескать, мало ли что, подружки-приятели, гулянки-танцульки.
Битый час я просидел на кухне, не в силах подняться.
За стеной, в комнате дочери висела тишина, и с каждой минутой тишина эта наливалась всё большей тяжестью.
Наконец я покинул стул, подошел к дочкиной двери.
«Ты спишь?» – спросил я.
«Нет», – ответила она.
Голос был низкий, нехороший голос.
Собрав все силы, я толкнул дверь. Дочка сидела на кровати, обняв колени.
«Включить свет?» – спросил я.
Она ничего не ответила и не сделала ни одного движения.
«Надо собираться, – пробормотал я. – Утром рано вставать и…».
«Я не полечу завтра, – сказала она тем же голосом. – Я сдала билет».
Мне надо было спросить её, почему она сдала билет, ведь ей надо поскорей возвращаться, ведь ещё вчера мы обсуждали – может ли она уехать так скоро после похорон, оставить меня одного в такие тяжёлые дни (она беспокоилась обо мне, доченька!). Мне следовало спрашивать и говорить, следовало подбежать к ней, обнять ее, прижать к себе… – но ни язык, ни ноги не слушались меня, я стоял на пороге и молчал.