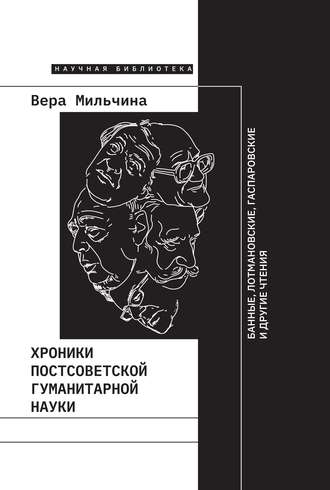
Вера Мильчина
Хроники постсоветской гуманитарной науки
12. О вещах куда менее гадательных, но ничуть не менее интересных говорила Ирина Шевеленко в докладе «Издательская практика времен идеологической войны (к истории издания русских классиков XX века в США)». Источником доклада послужил корпус писем Бориса Филиппова, хранящийся в Фонде Глеба Струве в Стэнфорде. Докладчица рассказала о том, с каким трудом приходилось Филиппову и Струве убеждать представителей «фондирующих организаций» финансировать издания этих самых русских классиков XX века. К поэтическим их достоинствам лица, которые давали деньги, оставались вполне равнодушны и были совершенно убеждены, что Цветаева – это псевдоним Ахматовой[101], а Мандельштам интересен лишь тем, что был репрессирован. При выборе книг для издания Филиппову приходилось руководствоваться в первую очередь политической конъюнктурой, ибо его «спонсоры» понимали лишь аргументы политические. Воспользоваться скандалом вокруг «Доктора Живаго» и под этим предлогом издать том пастернаковских стихов, писал Филиппов Струве, – это «самый верный ход конем» (на это деньги наверняка дадут). Точно так же, как мы по эту сторону железного занавеса доказывали советским чиновникам, что тот или иной писатель прошлого был в общем-то не против революции, а осуждал лишь ее эксцессы, и проч., точно так же Филиппов постоянно должен был доказывать американским «фондирующим» чиновникам, что Мандельштам и Ахматова – это мощное идеологическое оружие, что если эмигрантские издания постоянно критикуются в советской прессе, то, следовательно, они играют важнейшую роль в борьбе с советским режимом (существенным аргументом были и детали чисто технические: сколько книг и по каким каналам можно будет переправить в Советский Союз). Доводы звучали весьма убедительно, однако в конце 1960‐х годов левые выступления американской прессы и разочарование «фондирующих» (нет прямой отдачи!) положили конец издательской деятельности Филиппова и Струве; началась эпоха «Ардиса», где издавали преимущественно современную литературу – и безо всяких «политических спонсоров».
Именно об «отдаче» (отсутствие которой удручало американских госслужащих) говорил в своей пространной реплике Александр Осповат. Он напомнил, что Филиппову и Струве, их предисловиям к «тамиздатовским» классикам ХX века обязаны не только идеями, но и синтаксисом, самим строем языка и мышления диссиденты 60‐х годов, к какому бы направлению, либеральному или почвенническому, они ни принадлежали. Струве и Филиппов не претендовали на роль духовных отцов, однако, несомненно, ее сыграли.
13. И наконец, наступил апофеоз первого дня Третьих Банных чтений. В моднейшей пестрой жилетке, сменив утренние шорты на вечерние брюки, на сцену поднялся профессор Z, он же Александр Жолковский (Университет Южной Калифорнии, Лос-Анджелес), и мы услышали доклад «Анна Ахматова в школе и дома: к жизнетворческим стратегиям самопрезентации», который сам автор охарактеризовал как фрагмент из более обширной работы под названием «Прогулки по Ахматовой»[102]. Речь шла, в частности, об отношениях Маяковский – Ахматова. Ахматова долгое время не могла простить Маяковскому того, что он однажды на эстраде спел «Сероглазого короля» на мотив песни «Ехал на ярмарку ухарь-купец…»; с другой стороны, из воспоминаний Алексея Баталова известно, что она сама провоцировала пародийное исполнение своих стихов (в частности, заставила Баталова спеть «под Вертинского» не только стихи Маяковского – в качестве своеобразной запоздалой мести за некогда исковерканного «Сероглазого короля», – но и свои собственные). Однако смех над собой Ахматова, по мнению докладчика, допускала не всегда, а только в тех случаях, когда он был ею же самой и срежиссирован и оставался под полным ее контролем (докладчик употребил здесь слова «узурпация карнавала» и даже помянул эйзенштейновского «Ивана Грозного»). Сосредоточенная только на самой себе, Ахматова отстала от Сальери, но к Моцарту не пристала.
Доклад вызвал претензии двоякого свойства. Во-первых, поскольку все выводы докладчик делал на основе определенного корпуса мемуаров, ему были сделаны многочисленные источниковедческие замечания: почему он учел только определенные воспоминания, а другими пренебрег и почему он вообще принимает все воспоминания об Ахматовой как данность, не учитывая возможного искажения фактов под влиянием личности мемуариста (личности и неутомимый полемический темперамент выступавших – Леонида Кациса и Константина Поливанова – также имеют первостепенное значение; они сыграли в этой дискуссии не последнюю роль). Во-вторых, доклад вызвал недоумение «морального» свойства, наиболее четко выразившееся в вопросе Ирины Прохоровой: «Так хороший, по-вашему, Ахматова поэт или плохой?»; Жолковский ответил: «Хороший, поэтому-то я и не анализирую ее стихов», однако его, мягко говоря, скептическое отношение к Ахматовой как личности проявилось в докладе слишком заметно для того, чтобы его смогли смягчить какие бы то ни было позднейшие декларации. Само по себе ироническое отношение к объекту исследования, конечно, никому не возбраняется, однако в данном случае оно натолкнулось на неприятие зала, – возможно, по той причине, что многие разделяют точку зрения А. Зорина: мы читаем тексты, чтобы понять имя и личность, Ахматова же – гениальное явление культуры, и гениальность эту можно осознавать, не только изучая ее тексты, но и постигая принципы ее жизнедеятельности (тем более что, по утверждению самого Жолковского, в этом деле она была таким мастером, что дала бы сто очков вперед самому Вячеславу Иванову).
На этом закончился первый день Банных чтений, а назавтра начался день второй.
14. Начался он с доклада Марии Неклюдовой «К понятию скандала во французской культуре XVII века». В основу доклада было положено то значение слова «скандал», которое главенствовало во Франции в XVI–XVII веках: скандал как грехопадение. Обследовав случаи употребления этого понятия в мемуарах Сен-Симона, докладчица пришла к выводу, что скандал невербален (он визуален, это некое миниатюрное представление) и связан с вопросами морали лишь косвенным образом (любовные похождения, как бы бурно они ни протекали, в понимании XVII века – не скандал); скандал – невидимая ловушка для тех, кого аристократическое общество выбирает своими жертвами (при этом символически подразумевая короля, которого хотело бы принести в жертву, но не имеет такой возможности); человек, оказавшийся в ситуации скандала, вычеркивается из жизни общества навсегда, и характерно, что, описав «героя» скандала, Сен-Симон тут же сообщает о его смерти, пусть даже в реальности она произошла несколькими годами или даже десятилетиями позже.
При обсуждении этого доклада каждый из выступавших добавил от себя то, что знал на сей счет: Сергей Зенкин напомнил, что во французском переводе Евангелия слово «scandale» стоит там, где по-русски стоит «соблазн», Александр Жолковский – что Рене Жирар называет скандалом пляску Саломеи и что профессиональным скандалистом был Жан-Жак Руссо, Александр Иванов – что в «Бесах» Достоевского тоже есть скандалы, а Борис Дубин – что культурное, секуляризованное значение слова «скандал» стало соседствовать с религиозным довольно рано, уже в XVII веке.
15. Александр Носов назвал свой доклад «Герои опер Вагнера как поведенческая модель в России XX века»; впрочем, говорил он не столько о поведении вообще, сколько о поведении своих любимых героев Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой, переписку которых он публикует и изучает с большим тщанием и любовью[103]. На фоне всеобщего увлечения Вагнером в России Морозова признается Трубецкому, что предпочитает Вагнеру Бетховена (а Скрябин этого не одобряет), и Трубецкой горячо приветствует такой сдвиг симпатий своей возлюбленной, так как усматривает в Вагнере (и Скрябине) слишком много демонизма, однако сам, попав в Германию и прослушав в Байрёйте вагнеровские оперы, «эволюционирует» в своих музыкальных пристрастиях от Бетховена к Вагнеру; Вагнер, таким образом, оказывается той точкой, в которой герои Носова встречаются, сходятся. Вагнер занимает в жизни возлюбленных место настолько важное, что сопровождает их в самых интимных жизненных ситуациях: чаепития происходят между портретами Вагнера и Канта, а любовные свидания – в спальне под портретом Зигфрида, прокалывающего копьем дракона. В конце писем к Морозовой Трубецкой рисует лебедей, намекая на Лоэнгрина, едущего на свидание к Эльзе, причем этот намек приобретает особенное значение в контексте навязчивых мечтаний Трубецкого о превращении телесной любви в любовь сугубо духовную, – мечтаний, которые столь выразительно охарактеризовал Александр Носов 1 апреля 1995 года на лекции о семье и браке, организованной «НЛО». Меж тем с началом Первой мировой войны ситуация с вагнерианскими намеками резко меняется. Вагнера и Бетховена убирают из репертуара театров и концертных залов (а «Фауста» оставляют, так как музыку писал не немец), выясняется, что немецкая культура, в течение всего ХIX века воспринимавшаяся в России как «своя», на самом деле чужая, чересчур рассудочная, чересчур холодная. Трубецкой обыгрывает эту перемену в финале своего письма от 29 августа 1914 года: «Твой Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович (но не Лоэнгрин, Парсифаль, Тристан). Еще раз крепко целую Маргариту свет Кирилловну – не Эльзу». Однако в конечном счете, несмотря на официальные меры, ни Вагнер, ни Ницше из русской интеллектуальной жизни не выпадают и, более того, остаются в ней на правах «своих», немецкое начало отнюдь не репрезентирующих.
Александру Иванову показалось, что докладчик не разъяснил, что происходило на рубеже века с русской духовностью под наплывом сексуальности; Носов успокоил его и всех собравшихся, ответив, что ничего страшного не происходило, зато он, Носов, знает, что происходит с аудиторией, обсуждающей вопросы, связанные с сексуальностью, ибо русский эрос – это примерно то же самое, что и русский дискурс (см. реплику Зорина после доклада Темпеста).
16. Между тем обсуждать вопросы, связанные с эросом (впрочем, не русским), не побоялся Сергей Зенкин, автор доклада «Аполлония Сабатье: тело как текст»[104]. Предметом разговора стало в данном случае красивое тело, провоцирующее на создание текстов. Принадлежало оно Аполлонии Сабатье (1822–1889), женщине, которой посвящено четыре биографических исследования, хотя сама она никаких текстов не создавала, по социальному статусу была содержанкой (невенчанной женой бельгийского банкира Моссельмана, который купил ей дом в Париже на улице Фрошо, неподалеку от площади Пигаля; впрочем, в середине ХIX века в этом квартале тон задавали не проститутки, а художники). В историю культуры Аполлония Сабатье вошла прежде всего как модель знаменитой статуи «Женщина, ужаленная змеей» работы скульптора Клезенже. Выставленная в Салоне 1847 года, статуя эта произвела настоящий скандал (не в том смысле, о каком говорила Неклюдова, а в смысле вполне современном), прежде всего из‐за позы модели, в которой увидели прозрачные эротические намеки, а кроме того, из‐за размытости авторской точки зрения. Все критики недоуменно отмечали, что непонятно, с какой стороны следует смотреть на эту скульптуру, а охватить ее целиком глаз не может. Установка на фотографическое изображение натуры сближала скульптуру Клезенже с недавно возникшим искусством дагеротипа; вдобавок было известно, что скульптор пользовался слепками с тела самой модели, – прием, считавшийся недостойным настоящего профессионала. Ореол, в котором скульптура Клезенже предстала перед публикой, придавал статусу модели некоторую двусмысленность: с одной стороны, роль Аполлонии была почетной, с другой – ее как бы выставляли на поругание у позорного столба (по мнению докладчика, подобным садизмом отмечено вообще отношение автора к герою в литературе ХIX века, где столь часто встречается сатирическое развенчание персонажа). Аполлония Сабатье послужила «катализатором» не только скульптурных, но и литературных произведений. В ее салоне, где она была единственной женщиной и где постоянными гостями были Готье, Флобер, Бодлер и проч., культивировались непристойные жанры; Готье, посвящавший Аполлонии вполне классические стихи, одновременно адресовал ей письма, полные чудовищных скабрезностей (некоторые образцы докладчик отважно представил аудитории); Бодлер в посвященных Аполлонии стихах выражал садистское желание жестоко отомстить ей за ее красоту; сходные комплексы ощущений вызывала эта красавица и у Флобера (характерно, что в современном постмодернистском продолжении «Госпожи Бовари» дьявол оживляет Эмму, но в награду требует, чтобы она воплотилась в Аполлонию Сабатье и соблазнила Флобера[105]).
Обсуждение доклада концентрировалось в основном вокруг трех тем: 1) преимущественно мужской салон с хозяйкой-женщиной, где много сквернословят, – исключение или правило? (были потревожены тени Софии Дмитриевны Пономаревой и супруги Данте Габриэля Россетти); 2) случайно или не случайно в скульптуре Клезенже имеется змея, добавленная, как сообщил докладчик, задним числом, для большей приличности? Эту претензию змеи на «приличность» выступавшие дружно отвергли и вывели змею на чистую воду; 3) уместно ли опрометчиво примененное докладчиком к скульптуре Клезенже слово «реализм»? Докладчик, впрочем, пояснил, что он имел в виду прежде всего совпадение критических отзывов об этой скульптуре с тем, что критики несколько лет спустя стали писать о реализме.
17. Доклад Ирины Стаф «Французская новелла Возрождения: от быта исторического к быту культурному»[106] был посвящен усвоению на французской почве «Декамерона» и возникновению во Франции своих собственных «образцовых» новелл: сборник «Сто новых новелл» обязан своим названием «Книге ста новелл» (под этим названием до середины XVI века был известен во Франции «Декамерон»). Книга Боккаччо воспринималась во Франции как устаревшая городская хроника, а «Сто новых новелл» стали хроникой новейшей, национальной, вписанной в исторический быт; новеллы эти были созданы в Бургундии, при дворе тамошнего герцога Филиппа Доброго. В отличие от книги Боккаччо, здесь нет рамки, но поскольку рассказчики – исторические, реальные лица, «рамочные» обстоятельства тогдашний читатель мог достроить самостоятельно (вопрос о том, действительно ли при дворе существовал обмен новеллами, остается открытым из‐за недостатка документальных свидетельств). К концу XV века жанр хроники во Франции вырождается, превращаясь в забавные «гаргантюинские» хроники, ставшие предтечей книги Рабле; новелла ищет новую культурную привязку, и потому издание «Ста новых новелл», появившееся в 1505 году, рекомендует вошедшие в него «забавные и развлекательные вымыслы» как подспорье для того, чтобы «вести беседу во всяком обществе»; иначе говоря, из придворной забавы сборник новелл превращается в элемент городского быта. В ходе дальнейшей эволюции от текстов новелл остается одна голая сюжетная схема; сборники новелл становятся сборниками анекдотов, чья функция – помогать молодым кавалерам поддерживать беседу с дамами. Такие сборники составляются путем бесконечных компиляций, а элементы риторики, высокой поэтической культуры, восходящей к Боккаччо, из новелл вытесняются.
18. Евгений Берштейн говорил о «Мифологии Оскара Уайльда в России»[107]. К тому моменту, когда английский суд приговорил его за гомосексуальные пристрастия к двум годам каторги[108], Уайльд был в России практически не известен ни как писатель, ни как модный денди и эстет. Публика узнала о нем в 1895 году из газет, где о нем шла речь в разделе «Новости» и в отчетах из зала суда. Уайльд вошел в сознание тогдашних людей как прототипический гомосексуалист эпохи модерна. Слова «склонности Уайльда» сделались общеупотребительным эвфемизмом. Если в Англии после суда имя Уайльда стало невозможно даже просто упоминать, то в России, напротив, Уайльд сделался предметом обсуждения, причем рассматривался он почти всегда в ницшеанском контексте, как человек, совершивший сверхчеловеческое творческое усилие и преступивший обывательскую мораль. Докладчик подробно остановился на восприятии Уайльда Вяч. Ивановым и М. Кузминым. Иванову «прототипический гомосексуалист» казался фигурой дионисийской, а к Дионису в его понимании был близок Христос; Кузмин же в дневнике 1906 года резко критиковал Иванова, который «ставит этого сноба и лицемера, запачкавшего то, за что он был судим <т. е. гомосексуализм>, рядом с Христом». Кузмин не хотел считаться «русским Уайльдом», усматривание в судьбе Уайльда мистического смысла его раздражало, хотя публикация тюремной исповеди Уайльда, где уголовный инцидент переводился на язык мистического опыта, помогла Кузмину концептуализировать собственные сексуальные пристрастия.
В ходе обсуждения Александр Иванов назвал русский литературный гомосексуализм проявлением деэдипизации культуры, Абрам Рейтблат сообщил, что в конце XIX века гомосексуализм был широко распространен в России в придворной среде и вообще в высших слоях общества (между прочим, гомосексуалистом был прославленный русский патриот князь Мещерский), наконец, Александр Осповат напомнил о бытовавшем в России в середине XIX столетия восприятии гомосексуалиста как врага России (эти свойства удачно совмещал в себе маркиз де Кюстин).
19. После гомосексуализма на повестке дня оказался инцест (впрочем, не совершившийся, а лишь потенциальный): Ольга Вайнштейн в докладе «„Exquisite sister“: Дороти Вордсворт в контексте английского романтизма»[109] поведала публике о горестной судьбе сестры английского романтика Уильяма Вордсворта, которая жила себе с обожаемым братом в сельском доме, вела хозяйство (из хозяйственных функций была отмечена такая: задавала вопросы нищим; злые языки тотчас предположили, что она спрашивала: «Ну что же ты стоишь, ведь я тебя не бью?») и дневник, а потом брат женился, она рыдала, замуж не вышла, хотя предложения были, и в конце концов потеряла рассудок. Легковесную версию с инцестом докладчица отвергла вслед за английским коллегой, связывающим поэтическую продукцию раннего Вордсворта именно с невозможностью эротических отношений с Дороти, которая является прототипом той якобы умершей возлюбленной, которой Вордсворт посвящал страстные стихи. На этом часть доклада, имеющая отношение к быту, закончилась, и докладчица погрузилась в чрезвычайно изощренный и изысканный анализ темы зрения и позиции смотрения в дневниках Дороти Вордсворт. Однако поскольку она (не Дороти, а докладчица) неосторожно упомянула в первой, бытовой части имбирные пряники, а время заседания давно уже перевалило за обеденное, чувство голода решительно возобладало в организмах присутствующих над чувствами зрения и слуха, и внимать второй части доклада было неизмеримо труднее, чем первой.
20. После перерыва аудитория наполнилась до отказа, – очевидно, поклонницами и поклонниками Сергея Панова, пришедшими послушать его доклад «Культурная модель карамзинизма: литература, идеология, быт», вызвавший особенное любопытство, потому что, как признался сам докладчик, он отличается способностью пропускать собственные доклады, каковую способность неоднократно применял на практике. Панова интересовало соотношение реального бытового поведения литераторов с культурной идеологией. На место привычной дихотомии быт – литература он поставил триаду, где медиатором служит набор культурных идеологем. Функционирование этой триады было проиллюстрировано примерами бытования в разных сферах такого феномена, как карточная игра. Карамзинизм в целом отвергает карты и в быту (тот, кто следует моде, в карты не играет), и на уровне культурных концептов (в художественных текстах карты изображаются как сила зла). При этом отношение к картам претерпевает поэтапные изменения. Молодой Карамзин не брезгует картами в быту, но отвергает их на уровне культурных идеологем и порицает на текстуальном уровне (в «Бедной Лизе» причиной конфликта становится карточный проигрыш Эраста). Следующая генерация карамзинистов (продолжатели, восприемники дела Карамзина и Дмитриева: Шаликов, В. Л. Пушкин и проч.) переводят отрицательное отношение к картам из карамзинских текстов на уровень идеологем, культурных деклараций (вообще их излюбленный способ литературного общения; см. частые выступления младших карамзинистов в жанре «мыслей», «портретов» и т. д.). Сюжетного значения карты у младших карамзинистов не имеют, больше того, эти авторы подчеркнуто изгоняют карты из реального быта, стремясь жить по нормам, описанным Карамзиным. Такой же перевод сюжетных элементов на уровень идеологем, а затем и на уровень бытовой практики докладчик показал на некоторых других примерах (изображение читающего человека у Карамзина и Дмитриева; гимны чтению и реальное книжное собирательство у младших карамзинистов). Третьей генерацией докладчик назвал арзамасцев, четвертой – писателей пушкинского круга, которые по-иному стратифицируют один и тот же набор концептов; так, если В. Л. Пушкин возводил текст исходной (карамзинской) системы в ранг идеологии и воплощал в быту, то Пушкин превращает в идеологему реальное бытовое поведение Карамзина (стараясь подражать ему), а Вяземский подхватывает карамзинские идеологемы. Всякая эпоха и всякая генерация осуществляет эти переносы по-своему: одни переносят в быт сюжетику, другие – идеологемы.
Живейшее внимание публики вызвала упомянутая докладчиком сюжетная линия женитьбы на крестьянке (которую, но мнению Панова, сделали идеологемой, а потом перевели на бытовой уровень В. Л. Пушкин и Шаликов). Кирилл Рогов уточнил, что Карамзин вовсе не предлагал всем любить крестьянок, а просто рассказывал историю, что он призывал к сочувствию крестьянкам – но не к активному участию в их жизни; Евгений Берштейн поинтересовался, есть ли данные насчет того, что архаисты крестьянками не интересовались (Панов ответил, что, может быть, и интересовались, но не знаково).
21. Об архаистах (хотя и не в связи с крестьянками) говорила Екатерина Лямина в докладе «Литературный быт „Беседы любителей русского слова“»[110]. Описывая, как именно общались члены «Беседы» (и «пред-Беседы» в ту пору, когда общество еще не было создано официально), она подчеркивала элементы домашности, о которых потомки склонны забывать, так как под влиянием «арзамасских» насмешек помнят лишь о казенной стороне деятельности «беседчиков» (в частности, печально знаменитое расположение членов общества в соответствии с их чинами, которое так часто ставилось им в вину, произошло только оттого, что общество возникло на практике много раньше его официального основания, и это делало невозможным расположение членов в порядке поступления). Наиболее эффектно звучал фрагмент из письма молодого поэта Василия Козлова Шаликову (1819), откуда явствует, что в кругу Шишкова в эту пору было принято писать друг другу шутливые записки на славянском языке (употребляя, например, вместо слова «общество» слово «сонмище»), – в чем легко усмотреть своеобразную профанацию задач «Беседы». А. Зорин, впрочем, высказал предположение, что помянутый Козлов, не слишком близкий к Шишкову, мог не отличить серьезного употребления славянских слов от шуточного и принять за розыгрыш то, что для Шишкова было заурядным претворением в жизнь его принципов.
22. Кирилл Рогов назвал доклад «Типология „москвича“: литература и быт», однако более точным названием было бы, как он сам признался, другое – «О характере Михаила Погодина»[111]. Характер этот он определил как бесконечный биографический парадокс: полвека человек активнейшим образом трудился, создавал вещи, в основном попадавшие в цель (таковы его повести, таков издававшийся им журнал «Москвитянин»), но главного текста своей жизни так и не создал. Погодин в изображении Рогова предстал некоей помесью Ломоносова с Хлестаковым: плебей, чувствующий необходимость трудиться не покладая рук, дабы выйти в люди, – но одновременно и шиллеровский энтузиаст, живущий в постоянном ожидании палингенезии – преображения человечества и ставящий целью «изменение рода человеческого и ряда государственных учреждений», а для этого мечтающий прочесть в Европе для каждой страны особую лекцию, из которой чужестранцы бы уяснили все про себя и удивились, услышав, что главная мысль о них открылась молодому москвичу… Здесь шиллеровское начало нечувствительно перетекает в хлестаковское, а именно это хлестаковское начало роднит Погодина с Гоголем (об их дружбе, окончившейся, однако, полным разрывом, Рогов говорил особенно подробно, так что еще одним названием его доклада могло бы стать «Погодин и Гоголь»).
Намеченные Роговым перспективы оказались столь заманчивы, что спровоцировали Александра Осповата на изложение «параллельного» портрета Погодина – человека с биографией, но без судьбы, у которого каждый новый этап жизни не связан с предыдущим, так что он мог в один период заниматься историей, в другой – драмой, в третий – журналом, а в четвертый (под старость) – учреждением в Москве платных туалетов, и, будучи по складу ума русским утопистом-космистом, верить в успех всех этих предприятий, хотя относительно платных туалетов московская Дума и ответила ему, что это дело невозможное в Москве из‐за климата.
23. Екатерина Ларионова говорила о «Литературном и бытовом этикете в любовной и мадригальной лирике Пушкина». Она показала, каким образом любовную лирику можно прочитывать и в литературном, и в бытовом контексте. Так, пушкинскую элегию «Что в имени тебе моем…» можно считать образцом любовной лирики, альбомной элегической поэзии, где текст обладает повышенной реминисцентностью и содержит скрытые цитаты из элегий, сочиненных предшественниками. Однако прочтенная в контексте черновиков пушкинских писем к Каролине Собаньской, которой эта элегия посвящена, она предстает искренним любовным признанием. Сходным образом насквозь пропитанное литературной условностью стихотворение «Я помню чудное мгновенье…», если прочесть его в свете воспоминаний А. П. Керн, также предстает отнюдь не образцом салонной поэзии, а искренним признанием в любви. Пушкин нарочно провоцировал чтение его стихов как эпизодов его подлинной биографии, однако чаще всего его лирический герой – псевдобиографический. Меру подлинности можно примерно определить с помощью актуализации литературного контекста, в результате которой биографический контекст отходит на второй план.
24. О Пушкине говорил и Андрей Немзер, давший своему докладу название, как он сам выразился, «эстрадное» – «Онегин на Волге»[112]. Исходил он из воспоминаний В. С. Баевского, где приведена сказанная в устной беседе фраза Ю. М. Лотмана о том, что до возвращения в Петербург Онегин командовал на Волге шайкой разбойников. По мнению Немзера, в «Евгении Онегине» присутствует заниженная схема романтической поэмы, по канонам которой герой должен совершить преступление и оказаться в качественно чужой среде; память жанра срабатывает в «Онегине» в мелочах (см., например, упоминание «господского замка), однако романтическое праядро «Онегина» в романе дискредитируется, убийство Ленского не романтическое преступление, так как является плодом подчинения некоему социальному механизму, а не бунта против него. На сюжетном уровне ничего романтического и разбойничьего в Онегине не осталось, однако на уровне реминисценций и намеков докладчик разглядел в нем и разбойничьи черты, и черты балладного мертвеца, приходящего за суженой.
Доклад вызвал довольно бурную реакцию не только сам по себе, но и благодаря ссылке на Лотмана; Татьяна Кузовкина, бывшая в последние годы жизни Юрия Михайловича одним из его секретарей, напомнила о том, что Лотман, с одной стороны, любил розыгрыши, с другой – подчеркивал принципиальную важность несводимости разных Онегиных, существующих в романе, в единый стройный образ; по обеим этим причинам она посоветовала не слишком доверять Баевскому. Андрей Зорин задал присутствующим вопрос: в какой степени мы вправе ставить вопрос о том, был Онегин разбойником или не был, если у Пушкина сказано, что не был, и каково, собственно, то культурное пространство, в котором могло бы оказаться, что он разбойником все-таки был? Сходным образом Александр Осповат усмотрел в нынешнем докладе отблеск давнего спора о том, был или не был Онегин декабристом; во времена Оксмана этот спор был нужен как прикрытие, позволявшее сформулировать некие важные вещи, но в нормальной ситуации такой подход лишает Онегина статуса обычного литературного героя и превращает его в «наше все» на манер создавшего его Пушкина. Немзер, впрочем, своих позиций не сдал и сказал, что разбойником (и декабристом?) Онегин не был, но мог быть.
25. И наконец, последним место на сцене занял великий мистификатор Алексей Песков, начавший, впрочем, свой доклад «Старые слухи о Пушкине и Баратынском»[113] самым научным образом. В 1899 году были опубликованы два письма Баратынского к И. В. Киреевскому, содержавшие весьма неприязненные оценки творчества Пушкина («Евгения Онегина» и сказок). После этого возникла и была обнародована И. Л. Леонтьевым-Щегловым версия, что Баратынский был прототипом Сальери. Версию эту опроверг Брюсов, однако в 1925 году были опубликованы бартеневские записи начала 1850‐х годов, где приводились слова Нащокина о неискренности Баратынского, который завидовал Пушкину, а тот в простоте своей этого не замечал. На полях рукописи Бартенева Соболевский написал: «Это сущая клевета», однако во фразе Нащокина, помимо сквозящей в ней наивной уверенности, что только он один понимал душу Пушкина, докладчик усмотрел и плод слухов, действительно циркулировавших в то время в обществе. Возникнуть эти слухи могли и по причине разрыва Вяземского, Пушкина и Баратынского с «Московским телеграфом», и по причине неудовлетворенности писателей круга «Московского вестника» их отношениями с Пушкиным, который был предан им отнюдь не так безоговорочно, как им того хотелось. Однако и к Баратынскому эти же люди относились весьма прохладно и, возможно, припомнили ему те скептические замечания, которые он отпускал в их присутствии по адресу Пушкина, пока еще общался с ними. Все это – слухи, а точнее, гипотетическая реконструкция слухов. Факты Песков приберег под самый конец: в марте 1825 году Баратынский пишет письмо своему другу Путяте (опубликованное лишь в 1952 году), где признается: «Я не гений», а в декабре того же года пишет первое после пятилетнего перерыва письмо Пушкину: «Иди довершай начатое, ты, в ком поселился гений» – и это вновь возвращает нас к ситуации «Моцарта и Сальери», от которой Баратынского отгородили, казалось бы, так надежно еще в начале нашего века.







