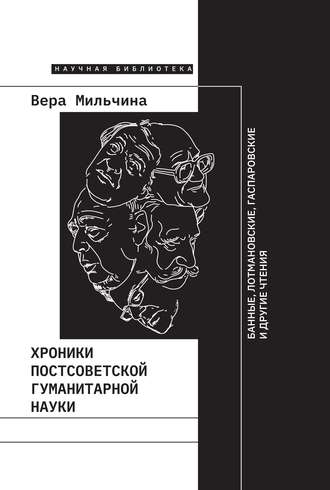
Вера Мильчина
Хроники постсоветской гуманитарной науки
О политически корректной дефлорации, методологической невменяемости и просто о литературном быте
Третьи банные чтения
«Литература и быт: отношение литератора к действительности» (28–29 июня 1995 года)[93]
Научный этикет велит упоминать о вещах, кажущихся общеизвестными, в витиеватой форме вроде: нет необходимости говорить, что… – и далее следует изложение того, о чем говорить «нет необходимости». Так вот: нет необходимости говорить, что журнал «НЛО» раз в год организует конференции, которые называются Банными, так как некогда (три года назад) редакция располагалась в Банном переулке, о чем наверняка все бы благополучно забыли, а так приходится каждый раз об этом вспоминать; нет необходимости говорить, что чтения эти заняли в годичном цикле (о нем шла речь в одном из докладов) место в самом конце июня, когда здешние филологи еще не успевают разъехаться на лето, а коллеги с Запада (один из докладчиков, оговорившись, противопоставил «стране России» «страну Запад») уже успевают съехаться на то же самое лето в Москву. Очередные чтения, тема которых формулировалась как «Литература и быт: отношение литератора к действительности», носили характер подчеркнуто банный по причине климатических условий (обещанной эсхатологическими прогнозами 45-градусной жары не было, но для превращения в парилку зала театра под диковинным названием «Театр около дома Станиславского», любезно предоставившего для чтений свое помещение, хватило и 25 градусов), однако публика, среди которой было много очень симпатичных студентов и студенток из Москвы и Лос-Анджелеса, мужественно провела в этой парилке два дня подряд с десяти утра до восьми вечера и выслушала 25 докладов, к изложению которых, а также весьма бурных прений, которые вызывал почти каждый из них, мы и приступаем.
1. Первым выступал Андрей Зорин с докладом «Ода В. П. Петрова „На мир с Портою Оттоманскою“ и русская политика»[94]. Зорин поставил оду Петрова, написанную в марте – апреле 1775 года, после официальной ратификации Кючук-Кайнарджийского мира, в контекст распространенных в тогдашней Европе представлений о системе европейского равновесия, восходящих к «Проекту вечного мира» аббата де Сен-Пьера. В 1761 году вышло сокращенное издание этого сочинения, подготовленное Ж.-Ж. Руссо, в 1771 году – его русский перевод, выполненный И. Богдановичем. Впрочем, Сен-Пьер критиковал теорию равновесия сил, считая ее достаточной гарантией от победы определенной державы, но, по причине природной испорченности человека, недостаточной гарантией от войн. Более надежной Сен-Пьер считал идею европейской конфедерации, установленной насильственным путем; для осуществления этого плана 19 любых европейских суверенов, считал он, должны объединиться и принудить к мирной жизни всех остальных (всего Сен-Пьер насчитывал в Европе 24 суверена). Сен-пьеровские представления о «вечном мире», в свою очередь, восходили к идее «христианской республики» Генриха IV и Сюлли, запечатленной в мемуарах последнего. Генриха IV Екатерина II почитала как образцового государя и охотно увидела бы Россию одним из членов описанной выше конфедерации. Однако вопрос о том, должна ли Россия войти в нее, и если да, то в каком качестве, вызывал немало проблем. У Сюлли место России охарактеризовано нечетко (если она сама не захочет входить в союз, можно «выключить» ее из Европы и предоставить ей воевать с турками и персами); Сен-Пьер называет Россию среди 24 потенциальных членов конфедерации на последнем месте (которое под пером русского переводчика превращается во второе, так что Россия идет сразу после Священной Римской империи). Еще более скептичен по отношению к России был издатель Сен-Пьера и пропагандист его идей Ж.-Ж. Руссо, известный своим полонофильством. Так же скептично, если не сказать враждебно, были настроены по отношению к России те люди, которые определяли внешнюю политику Франции при Людовике ХV, – как «официальные» министры иностранных дел, так и «секретный кабинет короля», творивший тайную дипломатию. Их целью было отгородить Россию от Европы непроходимой стеной; если они и соглашались включить ее в ранг европейских держав, то лишь затем, чтобы не допустить ее усиления. В одических метафорах Петрова докладчик усмотрел плод его осведомленности о тайной дипломатии французского короля (сведения о которой после смерти Людовика ХV начали выходить наружу). Автор оды рисует перед читателем картину Европы как целостного организма, внутри которого, однако, зреет заговор против России, который готовят некие «волшебники», «шарлатаны», «волхвы», ловцы человеческих душ (в этих пассажах, по мнению Зорина, можно различить глухой намек на масонов, от которого тянутся нити к масонофобии Екатерины II, Александра I и Николая I).
Обсуждение чрезвычайно насыщенного фактами и мыслями доклада прошло довольно вяло. В кулуарах настойчиво высказывалась мысль, что серьезный доклад Зорина нельзя было ставить на первое место, так как еще не вполне проснувшиеся слушатели не могли оценить его по заслугам; поскольку на первом месте, строго говоря, не бывает уютно никому, впредь остается, по-видимому, лишь последовать совету Венички Ерофеева, который шестую рюмку условно именовал десятой, и начинать сразу со второго доклада…[95]
2. Меж тем вторым выступил Александр Чудаков с докладом «Биографическая предметная среда и художественная система писателя». Докладчик напомнил о том, что среди тех «фонов» (литературный, речевой), какие достойны изучения при построении биографии писателя, незаслуженно редко изучается фон вещный, предметный. На примере Чехова докладчик продемонстрировал несколько «предметных инвентарей» (что видел или мог видеть писатель в родном Таганроге, в частности в лавке своего отца). При классификации подобных вещных рядов, подчеркнул Чудаков, следует избегать анахронистического отбора, при котором внимание привлекают лишь те вещи, которые затем явно отразились в творчестве писателя. Быть может, наилучшим принципом классификации, сказал он, был бы тот, по которому построена известная классификация Борхеса, открывающая книгу Мишеля Фуко «Слова и вещи» (иными словами, отказ от какой бы то ни было упорядоченности перечисления). Затем были названы несколько вопросов, ответы на которые особенно важны для изучения предметной среды, окружающей в детстве и юности будущего литератора: деревня или город? архитектура старая или новая? век «дружественных» вещей с многолетними традициями или эпоха «враждебных» вещей без биографии» и проч. Возможно, резюмировал докладчик свою мысль в эффектной фразе, в энциклопедии следовало бы писать не столько «родился в аристократической семье», сколько «первые годы жизни провел в одноэтажном особняке стиля ампир на Плющихе».
Доклад вызвал бурный натиск обнаружившихся на конференции методологов и философов. Первых представлял Вячеслав Курицын, заметивший, что, во-первых, «теплые трещины и следы», конечно, ничуть не уступают в значимости инвариантам культуры, а то и превосходят их, но борхесовская цитата является методологически невменяемой энциклопедией; что, во-вторых, прежде чем сообщать о детстве, проведенном в одноэтажном ампирном особняке, следует выяснить, как именно влияют на писателя одноэтажность и ампирность; и, наконец, в-третьих, что не в том дело, когда появилась зубная паста, а в том, какая за ней стояла методология. От лица философов выступал Александр Иванов, которому Третьи Банные чтения обязаны едва ли не всеми оживленными дискуссиями; почти каждый доклад вызывал у него ряд вопросов, так что в отчете о конференции впору заводить, по образцу старых анекдотов про армянское радио, графу «Александр Иванов спрашивает». Так вот, А. Иванов упрекнул А. Чудакова в мистическом материализме, уверенности в том, что существует мир вне нас (Чудаков в этом грехе не покаялся, а, напротив, храбро подтвердил, что пребывает на позициях примитивного материализма), и антифилософском характере доклада, в котором не учтено, что вещь и имя вещи это не одно и то же (сам докладчик отреферировал реплику своего оппонента таким образом: «Старая русская привычка: как можно решать, куда пойти обедать, если мы еще не решили вопрос о Боге»).
Дальнейшая дискуссия была весьма бурной (Абрам Рейтблат: «Кому же задавать вопросы, если не вам, Александр Павлович?»). Одни требовали от Чудакова, чтобы он разъяснил, какие вещи значимы в каких культурах, какова ориентация данного автора по отношению к вещам и когда же все-таки была изобретена зубная паста, другие же (Кирилл Рогов) настаивали на том, что претензии к Чудакову являются «наивным методологизмом» и что биография писателя пишется, а предметный фон его жизни изучается вовсе не для лучшего понимания творчества писателя, а просто ради воссоздания жизненного пути данного человека (а был ли он писателем или нет, не так важно). Ричард Темпест напомнил о том, что в англоязычных странах изучение предметной среды практикуется довольно давно по отношению к «культовым» писателям, так что книги на тему «Что ела Джейн Остин» там отнюдь не редкость. Мариэтта Чудакова подчеркнула условность разграничения литературных и нелитературных фактов (автор итальянской рецензии на «Хранителей древностей» Домбровского причислил этот роман к произведениям фантастического реализма, так как даже на секунду не мог допустить, что люди взаправду могут пить спирт из-под эмбрионов). Александр Осповат предположил, что в сознании людей запечатлеваются не отдельные вещи, а целые комбинации предметов, причем эта комбинаторика у каждого своя, так что, родившись в том же доме, где некогда родился Ходасевич, он, Осповат, запомнил тамошний «предметный фон» совсем не так, как его предшественник. Андрей Немзер подчеркнул, что, конструируя задним числом «вещный фон» того или иного писателя, мы обречены пользоваться не столько «объективными» описаниями, сколько текстами этого самого писателя: так, упомянутое Чудаковым описание Юсупова сада, открывающее тыняновского «Пушкина», есть не картина «реального» сада, но сгусток реминисценций из пушкинских текстов. А серо-белая кошка, которая тем временем неторопливо прохаживалась по сцене на заднем плане, ничего не сказала про предметную среду, – очевидно, потому что сама являлась элементом этой среды, а метаязык, как мы знаем, должен непременно отличаться от языка.
3. Наконец страсти по поводу зубной пасты несколько поутихли, и аудитория приступила к слушанию доклада Эрика Наймана (Калифорнийский университет, Беркли), носившего эффектное (особенно в контексте Банных чтений) название: «Литературная критика как отмывание быта»[96]. Доклад состоял из двух частей: в первой был дан анализ англо-американского «феминистического формализма» (преимущественно в работах о кино), во второй рассмотрена знаменитая статья «Искусство как прием», которой современная критика столь многим обязана, и те ошибки в толкованиях и цитатах, которые (сознательно или нет) допустил в ней Шкловский; так, его обращение с Л. Н. Толстым пародийно – в тыняновском смысле слова, – поскольку он доказывает свой тезис о занимательности искусства с помощью статьи Толстого «Что такое искусство?», весь пафос которой направлен против этой занимательности.
Настроения той части аудитории, что плохо знакома с феминистическим дискурсом и, по примеру неоднократно упоминавшихся докладчиком кинозрительниц, ерзала во время доклада на своих сиденьях, выразил Юрий Иосифович Левин, который попросил Наймана «в двух словах сформулировать его цель». Сам Найман ответил, что занимался деконструкцией, но текста не художественного, а критического, критику же деконструируют незаслуженно редко. На помощь Найману пришел Владимир Андреевич Успенский, разъяснивший коллеге и сверстнику Левину, что доклад явился одним из этапов прогрессивного развития литературоведения: вначале в духе фрейдистского психоанализа автор описывал сексуальные переживания героев, затем критики стали описывать сексуальные переживания автора; наконец, пришел метакритик, произведший ту же операцию с критиком Шкловским (тут ехидный Дмитрий Бак предположил, что автор этих строк, присяжный летописец Банных чтений, увенчает эту пирамиду, исследовав аналогичные переживания участников чтений, но я ему на это отвечаю, как герой анекдота на вопрос о здоровье: «Не дождетесь!»). Резюмировал идею доклада Александр Иванов, сообщивший ошеломленной публике, что Найман осуществил политически корректную дефлорацию русского литературоведения, с чем сам Найман согласился, хотя высказал некоторое уточнение по поводу объекта дефлорации (не столько Шкловский, сколько кинокритикесса Малви).
4. После такого крутого поворота дискуссии доклад Хенрика Барана (Университет штата Нью-Йорк, Олбани) прозвучал весьма умиротворяюще. Он назывался «Деревня – паремия – литература»[97]. Докладчик исследовал функционирование паремиологического материала, то есть пословиц и поговорок, в двух произведениях В. Хлебникова: поэме «Сельская дружба» и стихотворении «Русь певучая в месяце Ай…». Баран показал, как используется этот материал для воссоздания природных циклов; названные произведения Хлебникова он поставил в контекст земледельческой поэзии (Гесиод, «Георгики» Вергилия) и поэзии буколической (Феокрит, Спенсер, польско-латинский поэт Шимонович). Коснулся докладчик и судьбы паремиологического материала в текстах новейшего периода (если в европейской словесности ориентация на модель циклического времени с этим материалом не смыкается, то в африканской и латиноамериканской литературе дело обстоит противоположным образом).
5. Ричард Темпест (Иллинойский университет, Урбана) предпослал своему докладу «Семиотизация Сталина и Хрущева по Солженицыну» весьма пространную теоретическую преамбулу, в которой разъяснил, как понимали миф А. Ф. Лосев, М. Элиаде и Р. Барт, что такое «бартезианский» (первоначальный вариант эпитета, «бартианский», был отвергнут по настоянию А. Жолковского) дискурс и каким образом создаются семиологические системы второго порядка. К сожалению, пространность преамбулы не оставила докладчику времени на подробный рассказ о «семиотизации» Хрущева по Солженицыну и, что самое любопытное, Солженицына по Хрущеву, и он успел лишь сказать, что Хрущев на солженицынской бинарной шкале русских правителей находится на самом верху «положительного» полюса – «полюса русака», а также что свергнутый Хрущев, который, подобно Солженицыну, жил на даче и писал тексты, тревожившие «органы», начал воспринимать Солженицына как товарища по несчастью и собрата по писательству. Что же касается «семиотизации» Сталина, то дело не пошло дальше разбора известного фрагмента из романа «В круге первом», где сначала описываются парадные изображения Сталина, а потом реальный Сталин – рябой и сухорукий человек маленького роста. Официальные изображения Сталина Темпест, действуя «по Барту», назвал означающим культа Сталина, а несоответствие между этими изображениями и Сталиным «в жизни» – разрушением семиологической единицы и деконструкцией мифа о Сталине.
Казалось бы, Темпест, учтя горький опыт Чудакова, сделал все, чтобы его не смогли упрекнуть в «методологической невменяемости», и одел доклад мощной теоретической броней. Однако неблагодарная публика совершенно не оценила этих стараний. Вячеслав Курицын сказал, что никакой деконструкции он у Солженицына не наблюдает, так как деконструктор не претендует на то, что его высказывание точно описывает реальность, Солженицын же авторитарно заменяет неверное высказывание (лживый портрет Сталина) верным (со своей точки зрения) – что теоретикам и практикам деконструкции решительно не свойственно. Сергей Зенкин отослал докладчика к книге Е. Мелетинского «Поэтика мифа», два десятка лет назад осуществившей применительно к «русскоязычной» публике ту просветительскую миссию, которую нынче взвалил на себя исследователь из Урбаны; Зенкин напомнил также, что Барт включал в число мифологизируемых предметов только предметы потребления, субъектов же политики в виду не имел, так что тень его скорее всего была потревожена совершенно напрасно. Наконец, А. Зорин в чрезвычайно изящной реплике определил выступление Темпеста как типичный «русский дискурс», где возникла по контрасту со «страной Россией» пресловутая «страна Запад» и где было определено все, кроме понятий «Сталин», «Солженицын» и «Хрущев», каковые мифологизировались прямо на наших глазах так стремительно, что четырежды докладчик допускал оговорки, поминая вместо Сталина Солженицына, а вместо Солженицына – Сталина. Кстати об оговорках; по ходу своего изложения Темпест упомянул среди партийных начальников, «воспитывавших» опального Хрущева, «некоего Кириенко»; зал в лице тех, кто еще сохранил некоторые воспоминания о советских годах, возмущенно ухнул: мифологизация Кириленко не удалась, и он вновь обрел свою законную букву «л».
6. Доклад автора этих строк носил название весьма пространное: «Избранные страницы из жизни плута, или Как создавалось европейское общественное мнение», речь же в нем шла об особенностях журналистской деятельности Шарля Дюрана, редактора франкоязычной газеты «Journal de Francfort», с 1833 года выходившей во Франкфурте на деньги России, Австрии и Пруссии[98]. Дюран не просто принимал вспомоществования; он подводил под это довольно любопытную теоретическую базу. Он считал глубоко несправедливой ситуацию, когда якобинцы щедро награждают своих писателей, монархисты же своих стыдятся, и убеждал своих русских покровителей, что многие либералы охотно стали бы монархистами, если бы им за это заплатили. Но русских и австрийских денег Дюрану показалось мало; получив предложение сотрудничества от Франции, которая в это время находилась с Россией в весьма прохладных отношениях, но очень хотела эти отношения улучшить, он решил совместить принципы с интересами и стал печатать в газете (от своего лица) статьи из Парижа, помечая по просьбе австрийского канцлера Меттерниха на его экземпляре особыми значками эти французские материалы. Своему парижскому «работодателю» Луи Дюрану («не родственнику», специально подчеркивал он в послании Бенкендорфу) герой доклада объяснял, что может напечатать в своей газете все что хочет, но должен иметь возможность маневрировать: либо объявлять эти материалы присланными из Парижа, либо помещать их в разделе «Вести из Германии». Газетные тексты, таким образом, совершенно отрываются от реального сочинителя и поставленная под ними подпись меняет их смысл в сторону, диктуемую политической конъюнктурой (так действовал в ту пору не один Дюран; агент Третьего отделения в Париже Я. Н. Толстой, в чьи задачи входила «покупка» французских легитимистских газет и публикация в них статей в пользу России, возмущался поступком богача Анатолия Демидова, который напечатал во влиятельной газете «Journal des Débats» заметку за собственной подписью, впрочем вполне хвалебную по отношению к России; ведь я, писал Толстой, мог сделать это не хуже, но за подписью французского легитимиста, а такая статья имела бы вид куда более беспристрастный!). Мораль: прежде чем использовать материалы тогдашних газет как исторический источник, следует выяснить, кто за них заплатил.
7. В отличие от других участников чтений, в основном говоривших о тех авторах и эпохах, какие всегда являются предметами их внимания, Александр Осповат сменил тему и произнес доклад под названием «Вокруг и около теории литературного быта Б. М. Эйхенбаума». Осповат говорил о том, как совершалось в конце 1920‐х годов отпадение Эйхенбаума от формализма. В пристрастной интерпретации Шкловского отпадение это, выразившееся, в частности, в создании теории «литературного быта», представало «окончательным разложением» и «полным маразмом», однако, по мнению докладчика, в реальности литературным бытом довольно скоро стал заниматься сам Шкловский (книга о Матвее Комарове) и «прозелиты» Эйхенбаума: Аронсон и Рейсер (авторы книги «Литературные кружки и салоны»), Гриц и Тренин (авторы книги «Литература и коммерция»), Эйхенбаум же, обращавший преимущественное внимание на понятия биографии и судьбы, на знаки исторической характерности, переходящие с одних явлений на другие, подошел вплотную к созданию новой дисциплины, равноправной с поэтикой, – культурологии (решением сходных проблем занялся Лотман в «Статьях по типологии культуры»). На фоне панпоэтики 1920‐х годов новые разыскания Эйхенбаума (не «как сделана „Шинель“», но что означала «Война и мир» для различных групп читателей) казались ненужными, однако роль их куда важнее, чем казалось коллегам-формалистам. Во-первых, они «запрограммировали» тот поворот, который, по-видимому, при должной открытости ума рано или поздно происходит со всеми адептами «чистой» поэтики (Осповат сослался на «профессора Z» – Александра Жолковского, который ныне занимается «стратегиями поведения» писателей, от чего 20 лет назад с возмущением бы отказался). Во-вторых же, Эйхенбаум снял с исследователей тяжкий груз – необходимость быть верным присяге и доказывать всю жизнь одну и ту же теорию (тоже своеобразное проявление чувства историзма).
Из дискуссии тут же выяснилось, что груз этот тяготит далеко не всех. Александр Иванов сказал, что имманентное прочтение литературного текста, продемонстрированное Эйхенбаумом в статье «Как сделана „Шинель“», безусловно, возможно и необходимо, и тартуская школа совершенно напрасно стала объяснять произведения литературы, редуцируя их к чему-то другому. Впрочем, попытки повторения методологического тайфуна, разбушевавшегося после доклада Чудакова, были пресечены Осповатом, сказавшим, что его счастливое неведение насчет того, что должен делать филолог, освобождает его (вослед Эйхенбауму) от потребности в жесткой методологической узде.
8. Доклад Раисы Кирсановой назывался «Романтический идеал и действительность». «Упаковка» донельзя скучная, но содержание в ней обнаружилось увлекательнейшее, причем, как ни парадоксально, строго отвечающее заявленной теме! Кирсанова говорила о том, как мало соответствовал реальный быт (прежде всего костюм) романтической эпохи идеологическим декларациям писателей-романтиков. В текстах речь постоянно шла о свободе духа, в жизни же люди были предельно несвободны в отношении чисто физическом: мужчины непременно носили несколько жилетов, один из которых представлял собою корсет, и затягивались точно так же, как и дамы; высокие воротники и галстуки, закреплявшиеся на спине с помощью целой системы завязок, не давали мужчинам повернуть голову, так что поворачиваться приходилось всем корпусом, а появление более свободного «байроновского» галтука (косынки, которая завязывалась так, чтобы не стягивать горло) произвело настоящую революцию. Разрыв между декларациями и реальной практикой наблюдался и в области русского народного костюма: русское платье для дам насаждалось сверху и стало в 1830‐е годы официальным придворным дамским «мундиром», однако русская тема здесь трактовалась маскарадным образом: например, допускалась открытая грудь, что в реальном народном костюме было бы решительно невозможно (купчиха, даже вынужденная надеть такой декольтированный наряд, прикрыла бы грудь пусть прозрачной, но все-таки тканью). Чрезвычайно интересны были также замечания Кирсановой о том, как в разные эпохи искусство (в том числе и такая сфера пересечения искусства и быта, как костюм) ориентировалось на разную античность: в пору, когда господствовал стиль ампир, за образец брались мраморные копии греческих бронзовых статуй; женщины белили тело «под мрамор», а когда в Александровскую эпоху статуи в парке выкрасили однажды в розовый цвет, возмущенный император тотчас осведомился, зачем в парке голые люди, ибо статуй в них не опознал. В основе же более позднего течения («art déco» начала XX века) лежала ориентация на греческую вазопись; отсюда насыщенный колорит и жесткость линий – в том числе в моделях костюмов, разработанных Бакстом для парижского модельера Жанны Пакен.
9. Абрам Рейтблат говорил о «Романе писательского краха» (подзаголовок: литературный быт в русской прозе конца XIX века)[99]. Роман этот – выделенная самим исследователем жанровая разновидность, целый ряд произведений, повествующих о судьбе талантливого и идейного литератора, который по ходу своих занятий литературой убеждается, что писать то, что хочется, невозможно, и остается либо продать себя, начать сочинять романы или статьи на потребу невоспитанной публике, либо вовсе проститься с литературной деятельностью. Возникновение этой коллизии (которая, безусловно, не была плодом фантазии романистов, но существовала в действительности) докладчик связал с «газетным бумом» 1880–1890‐х годов, когда в низших сословиях наблюдалась огромная тяга к чтению, наверху же, среди литераторов, ослабело осознание писательской миссии как миссии учительской, проповеднической, но память об этом прежнем почетном статусе писателя сохранилась. Отсюда на одном полюсе – появление «продажных писак», которые, однако, тяжко переживают свою продажность, а на противоположном полюсе – рождение декадентов, которые сами сознательно отказываются от учительства.
Развернутый комментарий к докладу Рейтблата (практически содоклад) сделал Борис Дубин. Он говорил о существовании в истории литературы периодов безвременья, когда последователи у некоего культурного явления уже исчезли, а ниспровергатели еще не появились. Именно таким был тот период, который рассматривал Рейтблат: большая нормативная парадигма просветительского, воспитательного искусства закончилась, прежняя литературная форма потерпела крах (производным от него является тот крах отдельных литераторов, как реальных, так и вымышленных, о котором шла речь в докладе), прежняя рамка серьезных произведений больше не порождает, но сохраняется в качестве точки отсчета; происходит некоторая закупорка, когда литература никуда не движется, а нарождающихся литераторов тотчас «съедает» среда – а потом внезапно литературные поколения начинают сменяться с калейдоскопической скоростью, и перед ошеломленным читателем почти одновременно предстают символизм, футуризм, акмеизм, имажинизм и проч. (Дубин привел и более свежий пример: во время перестройки за два – два с половиной года перед читателем прошла одновременно практически вся русская литература ХX века.) Дубин значительно расширил само понятие «литературного краха», связав с ним тему «несвоевременного», неосуществимого, невозможного писательства («Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго», «Поэма без героя»): здесь мы имеем дело не с несостоятельностью писателя как проблемой его карьеры, но с невозможностью письма как проблемой экзистенциальной.
Дискуссия вокруг доклада Рейтблата – Дубина развивалась в основном в сторону расширения круга источников: Андрей Немзер напомнил о литературных неудачниках, действующих в прозе Бальзака и в русской словесности начиная с 1830–1840‐х годов (где понятия «литератор» и «честность» непременно связаны так, что даже продавшийся герой вроде Глумова в первой, «идеалистической» фазе обязательно что-то пописывает), Сергей Зенкин связал сюжет о литературном крахе с общеэстетическими представлениями раннеромантической эпохи о том, что идеальное творение обречено на неудачу (здесь, следовательно, важны не столько бальзаковские «Утраченные иллюзии», сколько его же «Неведомый шедевр»); разница между романтическими героями и героями Рейтблата в том, что в романтизме конфликт носит сугубо внешний характер, в душе художника его нет.
10. Николай Богомолов говорил о «Литературе и мистическом быте конца 1900‐х – начала 1910‐х годов»[100], а конкретнее – о мистических увлечениях и оккультных штудиях членов первого Цеха поэтов; в конце доклада он высказал предположение, что каждый из участников Цеха воплощал в себе одну из сторон личности его «синдика» – Гумилева, и члены оккультной «фракции» не являлись исключением.
11. Если доклад Богомолова особых споров не вызвал, то последовавший за ним доклад Сергея Козлова «„Я не Бодлер“: сопротивление быту в поэзии Анненского» снова возбудил чуть поутихшую аудиторию до чрезвычайности. Фраза Анненского, приведенная в названии доклада, взята из его частного письма 1906 года, написанного в Вологде. Почти одновременно с этим письмом, 20 мая 1906 года, сочинено стихотворение «Я на дне…», которое, собственно, и стало предметом анализа в докладе. Докладчик рассмотрел возможные коннотации единственного упоминаемого в стихотворении имени собственного – Андромеда. Андромеда – инобытие Андромахи, а связанная с нею тема вдовства ведет к понятию échafaudage (нагромождение. – фр.), которое, в свою очередь, отсылает к Бодлеру (стихотворение «Лебедь»); иначе говоря, тема вдовства у Анненского связана с Бодлером. Но о ком тоскует упомянутая в анализируемом стихотворении «Андромеда с искалеченной белой рукой»? Докладчик предположил (и тем навлек на себя бурю возражений), что если для Андромеды логично тосковать о Персее, то все стихотворение («Помню небо, зигзаги полета…») написано от его лица («зигзаги», в частности, восходят к «Метаморфозам» Овидия, где полет Персея описан именно так), а упал Персей («Я на дне, я печальный обломок…») оттого, что в руках у него была голова Медузы. Этот Персей – репрезентант Анненского, вся экзистенция которого адекватно описывается в терминах выживания; выживание происходит за счет уклонения в борьбе с превосходящей силой. В этом контексте в Медузе, погубившей летучего и светоносного Персея, можно опознать скуку – главного врага Бодлера. Иными словами, в стихотворении, по поводу которого было сказано: «Я не Бодлер», обнаруживаются бодлеровские ассоциации. Разница между Анненским и Бодлером в том, что у них разная стратегия. Анненский отказывается от бодлеровской интенсивной символизации повседневности, окультуривания ее мощными символическими подтекстами. В письме из Вологды он скептически описывает все поэтические красоты этого города (колокольный звон, в частности, мешает ему писать стихи), и единственным фактором, который оценивается с положительным знаком, оказывается парной дождь – проявление той неокультуренной природы, которую Бодлер страстно ненавидел.
Основная дискуссия, как я уже сказала, развернулась вокруг Персея. Далеко не всем его присутствие в стихотворении показалось очевидным; точку зрения скептиков сформулировал Михаил Гаспаров, сказавший, что «по своей наивности» не видит в стихотворении ни Персея, ни Медузы и считает его написанным от лица обломка статуи Андромеды (на что Козлов возразил, что Анненскому была свойственна поэтика опущенных звеньев; самое важное он в своих стихах часто опускал, и в данном случае именно такими опущенными звеньями являются неназванные Персей и Медуза). Процедура установления личности Персея и прочих «персонажей» стихотворения настолько увлекла аудиторию, что Александр Жолковский на следующий день специально попросил автора этих строк «занести в протокол», что лично он прочит на роль отбитой руки статуи Анну Андреевну Ахматову.







