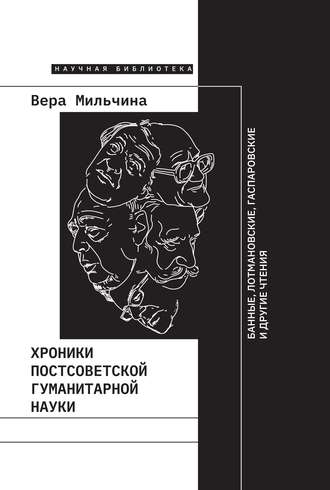
Вера Мильчина
Хроники постсоветской гуманитарной науки
Ольга Вайнштейн в докладе «Плагиат как способ письма: о литературной репутации С.-Т. Кольриджа»[67] показала, какую большую роль играла в творчестве этого английского поэта его, так сказать, «литературная клептомания»: он присваивал себе чужие поэтические или философские тексты, даже не скрывая этого. По мнению докладчицы, причина такого не совсем обычного поведения коренилась, с одной стороны, в «женском» характере мышления Кольриджа, которому требовались для творчества мощные, «оплодотворяющие» импульсы извне, а с другой – в существовании в романтическую эпоху определенных авторских амплуа, предполагающих стирание граней между «своим» и «чужим». Вайнштейн перечислила некоторые из этих амплуа: энциклопедист, собиратель фольклора, мыслящий себя творцом нового эпоса, переводчик, лектор и собеседник (создающий тексты типа «застольных бесед», table-talk).
Александр Чудаков в докладе «Литературный грубиян Буренин» продемонстрировал, что полузабытый ныне персонаж известной эпиграммы («По Невскому бежит собака, / За ней Буренин, тих и мил; / Городовой! смотри однако, / Чтоб он ее не укусил!») был не только остроумным, но и довольно тонким литературным критиком, ценившим – в отличие от большинства его глубоко политизированных современников – писателей не за убеждения, а за литературные достоинства. Доклад состоял в основном из «показа» аудитории наиболее ярких образцов буренинской критики и вдохновил слушателей на самые смелые гипотезы, как, например, влияние Буренина как хранителя усредненных традиций русской словесности на Л. Д. Троцкого (предложение Олега Проскурина). Изумленный докладчик обещал это предложение обдумать.
Александр Жолковский назвал свой доклад «Великий плохой роман Чернышевского и ирония его судьбы»[68]. Продолжив начатую Ольгой Вайнштейн тему литераторов, «оплодотворяемых» другими, более сильными писательскими индивидуальностями, Жолковский сразу признался, что основными идеями доклада обязан вышедшей в США на английском языке монографии Ирины Паперно, посвященной роману Чернышевского[69], и его рассуждения, таким образом, являются вариациями на тему книги Паперно, которой, впрочем, никто из присутствовавших, кажется, не читал, и потому «кольриджевское» начало калифорнийского профессора публику нисколько не шокировало. Продемонстрировав, каким образом функционируют в сюжетосложении романа мотивы подмены, блефа, тотальной фальсификации и манипуляции одних, более сильных, «особенных» людей другими, более слабыми, докладчик обнаружил в романе Чернышевского всю политическую стратегию последующего советского строя; понятно, что в случае успеха у читателей такой роман не мог не иметь «сокрушительной прагматической эффективности». Он ее и приобрел, когда один читатель верно его понял и написал, перефразируя Хлестакова, «другое» «Что делать?». Несмотря на мощный слой терминологической и методологической новизны (психоаналитические истолкования взаимоотношений Чернышевского с женой, установление «диагноза» автору романа – самоотождествление с сильной женщиной-героиней вплоть до скрытого андрогинизма, и разные изящные английские словечки, которые мы не будет здесь приводить за недостатком познаний в английском языке), доклад, таким образом, оказался по-старинному морализаторским и решительно разводящим в романе Чернышевского «идейное» и «художественное» (как говаривали в старину). Жолковский отвел специальный абзац перечислению того, за что «мы бы Чернышевского похвалили». а именно за авангардистское плохое письмо, волевой дискурсивный жест повествователя, альтернативность повествования. Но хвалить «мы», т. е. докладчик, его за это не стали, – очевидно, по той причине, что он научил нас нехорошему – манипуляции и фальсификации. Такой вывод из доклада неизбежно напрашивался.
Константин Азадовский прочел доклад «Николай Клюев: миф о „народном поэте“»[70], где обстоятельно показал, каким образом, идя навстречу «социальному заказу» литературной среды начала XX века, уроженец Олонецкой губернии Клюев стал выпячивать и подчеркивать в своей биографии те черты, каких от него ждали интеллигенты, жаждавшие припасть к тайнам народной мудрости: крестьянское происхождение, близость к природе и патриархальному укладу деревенской жизни. Между тем в реальности Клюев был отнюдь не сыном пахаря (отец его трудился на посту сидельца в казенной винной лавке), а родная губерния поэта отнюдь не была в годы его детства той глухоманью, какой он хотел ее изобразить. Клюев, показал докладчик, вовсе не был носителем народного сознания, хотя основательно изучил его к концу 20‐х годов; он был не столько народным бардом, сколько начитанным и даже утонченным человеком городской культуры.
В обсуждении доклада Азадовского была очень кстати проведена параллель с докладом Андрея Зорина, где шла речь о том, что сама народность – плод творческой мысли немецких романтиков. Чем больше чаяний и надежд с народностью связывают, тем более неуловимой и удаленной от реальности она оказывается.
Завершил первый день конференции доклад Андрея Немзера «Лермонтов в литературе конца 20‐х – начала 30‐х годов ХX века». Докладчик показал, каким образом скудость фактического наполнения реальной лермонтовской биографии позволяла последующим интерпретаторам, основываясь на одной и той же книге (висковатовской биографии поэта), представлять его личность совершенно различно – то демоническим злодеем, то романтической жертвой обстоятельств. Рассмотрение посвященной Лермонтову биографической прозы (Мережковский, Большаков, Пильняк) позволило докладчику коснуться разных типов повествования о прославленных писателях: одни исходят в первую очередь из жизненных обстоятельств своего героя, другие – из его творчества.
Второй день конференции открылся докладом Юрия Орлицкого «Парадокс о Сапгире: между „классикой“ и постмодернизмом»[71]. Генрих Сапгир известен широкой публике в основном в качестве детского поэта, хотя подлинная основа его творчества – стихи взрослые; именно в соотношении этих двух сфер видит Орлицкий главное своеобразие Сапгира; если остальные поэты пишут взрослые стихи всерьез, с оглядкой на читателя, а в детских – «резвятся», то Сапгир, напротив, сочиняя детские стихи, всегда старался приноравливаться к потенциальным заказчикам, во взрослых же стихах, в силу своей авангардности заведомо непечатных, был абсолютно свободен. Это – первый парадокс творчества Сапгира, второй же, по мнению докладчика, – в отсутствии в этом творчестве эволюции. Впрочем, заключил докладчик, возможно, все это вовсе не парадоксы, а естественное отставание исследователя от поэта-творца, чьи свершения исследователь еще не в силах осмыслить.
Николай Богомолов в докладе «Литературная репутация и эпоха: случай М. Кузмина»[72] показал, как менялась общественная функция кузминской репутации: если в 1900‐е годы гомосексуальная аура лишь способствовала славе поэта, то в 1920‐е годы, когда Кузмина стали забывать и сознательно вытеснять из литературы, автор «Александрийских песен» превратился в восприятии современников в представителя «мира петербургской педерастии», чья поэзия безусловно менее важна, чем его сексуальные пристрастия.
Доклад Кирилла Постоутенко назывался «Н. К. и Э. К. Метнеры: к вопросу о национальной самоидентификации»[73]. Докладчик изложил историю скандала, разразившегося в Петербурге в декабре 1911 года. Берлинский дирижер Фрид, недовольный игрой петербургского оркестра, упрекнул русских музыкантов в том, что в их стране даже за деньги нельзя ни от кого добиться толку. Оркестр отказался иметь дело с «иноземным клеветником»; вскоре его из России выслали, а на его место пригласили голландского дирижера Менгельберга, однако пианист Николай Метнер не участвовал и в концерте, которым дирижировал Менгельберг, ибо тот на репетициях извел его своими замечаниями. В открытом письме, опубликованном после этих событий, Метнер пояснял, что Менгельберг унизил его достоинство русского музыканта. Таким образом, Николай Метнер, немец по крови, идентифицировал себя в данном случае как русского; иначе поступил, реагируя на ту же самую историю, его родной брат искусствовед Эмилий Метнер, увидевший в наглом поведении Фрида (немецкого еврея) очередное проявление «засилия в области современной эстрады международного юдаизма», которому давно пора объявить бой и противопоставить ему музыкальнейшую из наций, хранительницу самого духа музыки, а именно немцев. Таким образом, если Николай Метнер полагал, что Фрид и Менгельберг оскорбили русских, то для Эмилия Метнера оскорбленными и пострадавшими от евреев оказались немцы, – прекрасное напоминание о том, что кровь – понятие условное, легко поддающееся мифологизации и идеологизации (то же самое в не меньшей мере относится и к народности, чья призрачность была показана выше Андреем Зориным и Константином Азадовским).
В докладе «Вл. Соловьев – „русский Ориген“» Александр Носов блистательно показал, каким образом, различные группировки и кружки творили каждый свою легенду о Владимире Соловьеве[74]. У Соловьева было целых три различных репутации: родственники изображали его девственником, платоническим возлюбленным мистической Софии; оппоненты-церковники – распутником, скрывающим под внешностью Иоанна Крестителя самые пылкие страсти; наконец, В. В. Розанов уже после смерти философа в примечании к сочинениям Леонтьева выдвинул, ссылаясь на рассказ современника, точку зрения, согласно которой Соловьев, дабы преодолеть соблазны, сам себя оскопил. Основываясь на неопубликованном письме Соловьева, содержащем прелестные, хотя и не вполне цензурные стихи, докладчик показал, откуда мог взяться подобный слух; затем с помощью анализа писем уже опубликованных доказал, что и этот, и все прочие слухи неверны и что Соловьев не был ни девственником, ни «Оригеном», а был нормальным человеком – что, впрочем, никак не отменяет необходимости изучать создававшиеся помимо его воли репутации.
Сторонники методологической четкости (Юрий Левин, Борис Дубин) попытались, правда, оспорить право подобных – сексуальных – репутаций называться литературными, однако закосневшая в эмпирике аудитория их не послушалась, рассудив, что все говорящееся про литератора (а не про частного человека) неминуемо формирует его образ в сознании читающей публики – то есть его литературную репутацию.
Александр Осповат назвал свой доклад «Чаадаев: сотворение „отрицательной“ репутации». Он показал, каким образом П. Я. Чаадаев работал над своей репутацией, формируя ее в соответствии со своей главной жизненной задачей – выбором идеальной стратегии для достижения бессмертия. Чаадаев, по мнению Осповата, не боялся предстать перед современниками трусливым, смешным и даже безумным; ему важно было любой ценой противопоставить себя «простым смертным», а может быть – от этой мысли невозможно избавиться, анализируя его биографию, – как бы заранее подсказать властям, как следует объяснить его «преступление» – создание и публикацию такого скандального текста, как первое «Философическое письмо». Сыграв, по-видимому, на чудовищном честолюбии издателя «Телескопа» Надеждина, Чаадаев добился напечатания «Философического письма»: однажды в жизни он преодолел страх, ибо желание привлечь к своей особе всеобщее внимание оказалось сильнее страха. Поскольку по ходу конференции постепенно стало ясно, что сексуальная ориентированность автора – это некий неизбежный «пятый пункт» его «анкеты» и при анализе литературных репутаций ею редко можно пренебречь, Осповат не уклонился и от этого «банного» аспекта темы, напомнив о тумане, окутывающем эту сторону жизни Чаадаева: ни одной женщины, с которой его отношения пошли бы дальше интеллектуальных бесед и чисто словесного ухаживании, мы назвать не можем, отношения же с камердинером Петром не разгаданы…
Наталия Мазур говорила об А. С. Хомякове; название ее доклада на редкость точно соответствовало сути дела: «Молодой Хомяков: каким он был и каким не был»[75]. Докладчица сопоставляла облик Хомякова, каким сразу после смерти писателя представили его биографы (учитель церкви, едва ли не святой, от рождения горевший религиозным чувством, и проч.), с реальной, а не житийной биографией Хомякова, который признавался, что охотнее прожил бы месяц в Париже, чем год в деревне, говорил чаще по-французски, чем по-русски (хотя ходил в армяке) и был таким скверным хозяином, что уровень жизни его крестьян был самый низкий во всей губернии. Не обошлось в докладе и без пресловутой «сексуальной составляющей»: к восторгу благодарной аудитории, Мазур рассказала о страданиях Хомякова, с которого матушка взяла слово не знать женщины до брака, и тот, вместо того чтобы жениться, до тридцати лет скакал по ночам на лошади, дабы канализовать нерастраченную силу…[76] Увы, что бы сказали о наших банных смешках великие тени Бердяева, Лосского и Флоровского, так благоговейно живописавших подвиги «учителя церкви»!
В ходе конференции уже не раз обнаруживалось, что репутация – вещь зыбкая и даже скользкая, и иногда ей мало что соответствует в действительности: не было ни «святого» Хомякова, ни Клюева как «сына народа», ни самой народности… Но Кирилл Рогов зашел по этому пути дальше всех: он прочел доклад о не существовавшем издателе. В название его доклада, напечатанное в программе чтений, вкралась опечатка: написано было «Генерал С. Л. Львов и писатели его круга», однако, предупредил Рогов, речь пойдет не о Сергее Лаврентьевиче Львове, а о Сергее Матвеевиче Львове, разница же между ними состоит в том, что Сергей Лаврентьевич – существовал, а Сергей Матвеевич – нет[77]. И дальше, проявив себя виртуозным «сыщиком», Рогов показал, что под псевдонимом «С. М. Львов, издатель „Московского курьера“» скрылись несколько человек, и прежде всего – Михаил Макаров, в самом деле начавший издавать в 1805 году этот журнал. Но это еще не все: не было также сотрудницы журнала Анны Безниной (которой, впрочем, посвящена статья в новейшем биографическом словаре русских писателей), а возможно, и другой писательницы, выступавшей на его страницах, – Елизаветы Трубецкой.
Доклад Рогова произвел на аудиторию поистине животворящее действие; все принялись разыскивать истоки происхождения псевдонима Безнина (которое сам Рогов трактует как ошибочно прочитанную фамилию реальной поэтессы, перешедшей затем из лагеря карамзинистов в круг «Беседы» – Анны Буниной): Александр Осповат предложил трактовать подпись под ее статьями «Муром» как анаграмму несостоявшегося макаровского журнала «Амур», а Елена Толстая нарекла ее плодом незаконной страсти помещицы Любезниной, давшей дочери фамилию по известной модели: Пнин – Репнин, Бецкой – Трубецкой и проч. Главное же, как заметил Осповат, доклад Рогова поднял всех присутствовавших в область «экзистенции и метафизики»: оказалось, что репутация бывает и у тех, кого наверняка или с большей вероятностью вовсе не существовало. До классификаций ли тут, добавим от себя, если под классифицируемым материалом глаз опытного исследователя обнаруживает вдруг такие «дыры» и пропасти, если сам систематизируемый материал расползается, как ветхая тряпка? И скольких, кстати, еще писателей не существовало? (Рогова, между прочим, тут же забросали вопросами насчет конкретных персоналий, но он успокоил публику, заметив, что многие из третьестепенных писателей начала XIX века все-таки жили на свете, хотя за всех он бы не поручился.)
Завершил Банные чтения доклад автора этих строк под нахальным названием (осколок первоначального, сугубо «банного» замысла) «Ежик в тумане, или Россия во мгле»[78]. Речь в докладе шла о маркизе Астольфе де Кюстине, авторе нашумевшей книги «Россия в 1839 году». Его, с позволения сказать, репутация у русских читателей по сей день основывается на издании 1930 года «Николаевская Россия», где четыре тома превращены в один. «Реферат» 1930 года относится к оригиналу примерно так же, как лаконичная аннотация с пересказом сюжета – к многотомному роману Марселя Пруста. В докладе была сделана попытка назвать черты, отличающие книгу Кюстина от путевых заметок других французов, побывавших в России примерно в то же время, и понять, отчего именно «Россия в 1839 году» вызвала столь резкое неприятие у первых русских читателей. Причины – в особенности кюстиновского стиля (намеренное «запутывание следов» в изображении увиденного, мастерское владение традицией моралистического афоризма, позволяющее анализировать оттенки чувств и впечатлений), а также в особенностях психического склада самого Кюстина. Автор «России в 1839 году» был и ощущал себя в обществе изгоем (в отличие, например, от М. Кузмина, он отнюдь не афишировал свои гомосексуальные наклонности, и тем не менее они сделались скандально известными) – быть может, эта обостренная чувствительность позволила ему «многое угадать» в русской жизни. В деталях и фактах Кюстин ошибался (подчас кажется: намеренно), но главное он понял так хорошо, что и через сто пятьдесят лет его книга продолжает, выражаясь словами А. И. Тургенева, «будить нашу мертвечину».
За время Банных чтений методологической невинности мы, возможно, не утратили, но это не помешало нам провести время с пользой и удовольствием. Неофициальная часть завершилась в полночь страшным ливнем и раскатами грома. Природа скорбела об окончании мероприятия.
Рефлексии и фиксации
Вторые банные чтения
«Дружба/вражда: из истории литературных отношений» (27–28 июня 1994 года)[79]
Как и предсказывали проницательные наблюдатели, Вторые Банные чтения (организованные, как и первые, журналом «Новое литературное обозрение», но на сей раз при участии Российской библиотеки по искусству, бывшей библиотеки ВТО, в гостеприимных стенах которой участники и публика и провели два дня – 27 и 28 июня) оказались непохожи на первые. Тем, кто забыл, напомню, почему чтения именуются Банными: во-первых, в Банном переулке начинала свою деятельность редакция (теперь адрес ее, к огорчению бывших соседей, изменился), а во-вторых, приняв такое несерьезное название, редакция тем самым предложила докладчикам излагать свои идеи, не чуждаясь юмора, иронии, может быть, даже розыгрыша – но не вместо серьезных соображений, а вместе с ними. Этот «банный» дух в точно отмеренной пропорции чрезвычайно удачно осенил прошлогодние Первые чтения, на Вторых же был представлен довольно скупо[80]. Но разница, пожалуй, не только в этом. Первые чтения были замечательны тем, что обнажили некоторые изначальные противоречия, свойственные тому делу, которым занимаются докладчики – историки литературы. Вторые же чтения показали не столько затруднения целой науки, сколько частные трудности конкретных исследователей с постановкой и разрешением их собственных историко-литературных проблем. Возможно, если не все, то полдела здесь – в теме чтений. Первые чтения назывались «Парадоксы литературной репутации», и эта тема превосходно «организовала» докладчиков, не давая никому из них погрузиться в своих рассуждениях на такую глубину конкретики, которая, пожалуй, уже не внятна исследователю другой конкретики (другой эпохи, другой национальной литературы и проч.), – подход, при котором последующий докладчик с трудом может уяснить, что, собственно, тревожит предыдущего. «Литературные репутации» заранее постулировали подход к эмпирике литературной жизни как к чему-то не заслуживающему полного доверия, чему-то нуждающемуся в разгадке, провоцировали на исследование зазора между тем, «что было на самом деле», и тем, что осталось в истории литературы. Тема Вторых чтений формулировалась так: «Дружба/вражда: из истории литературных отношений» – и оказалось, что организующий потенциал этой формулы весьма скромен. Чрезвычайно интересная сама по себе (звучит прекрасно!), тема «дружбы/вражды» позволила докладчикам, оставаясь формально верными «повестке дня», толковать преимущественно о том, как поссорился такой-то с таким-то, а то даже и не поссорился, а просто жил, был и заимствовал у кого-то мотивы и метафоры. Проблема, важная для всех, терялась по дороге. И даже записные теоретики, вдруг сникнув, не предложили сформулировать наконец, что же такое литературная дружба или литературная вражда, и говорили, как и остальные, каждый про свое, сугубо конкретное. Слушать-то было интересно всех. Но – каждого в отдельности и постольку, поскольку его интересы совпадают с твоими собственными. Вместо торжества историко-литературного исследования (со всеми его несовершенствами) получилось торжество отдельных, ничем кроме места произнесения между собою не связанных докладов. Впрочем, никто еще не отменял основополагающего завета кирпича из анекдота: главное, чтобы человек был хороший. А люди, то есть докладчики, были все безусловно хорошие. О чем предоставляется судить читателю по изложению их докладов.
Чтобы избежать непременного в кратком пересказе чужих докладов лавирования между прискорбно однообразными глаголами: «докладчик показал – сказал – указал», «доклад назывался – носил название – был посвящен», – я попробую свернуть выслушанные доклады до состояния тезисов (коих, впрочем, никто от докладчиков не требовал) – в надежде на то, что это придаст пересказу необходимый динамизм.
Следуя в расположении этих «тезисов» хронологии событий, приходится, как это ни неприлично, начинать с себя (волею главного редактора «НЛО» Ирины Прохоровой автор этих строк был выдернут с уютного предпоследнего места в программе и поставлен на место самое что ни на есть первое, что не улучшило ни самочувствия докладчика, ни – боюсь – качества доклада).
Итак: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
1) Вера Мильчина. «Русофобия и русофилия – близнецы-братья»[81]. Скрытый под «банным» названием вполне традиционный историко-литературный сюжет: репутация России во французской прессе 1830‐х годов, вражда (если формулировать в рамках предложенной для чтений темы) не людей, но концепций. Концепции две: одна исходит из лагеря, условно говоря, демократического (республиканского или около того), другая – из легитимистского. Для республиканцев Россия – средоточие всех зол и постоянный источник опасности, по их мнению, она только и мечтает о том, как бы начать «крестовый поход» (выражение, чрезвычайно употребительное в республиканских газетах) против западной цивилизации; страх перед этим «крестовым походом» (как материальным, в виде «казацкого нашествия», так и моральным, в виде русской пропаганды) так велик, что заставляет искать русских шпионов даже в мирных философах-индологах, более чем далеких от русских дел. Для легитимистов, напротив, Россия – идеальная монархия, управляемая наилучшим образом и процветающая благодаря самоотверженной любви подданных к государю (легитимисты охотно ставят верноподданных русских в пример французам, променявшим законную, «правильную» монархию старшей ветви Бурбонов на «промышленную» монархию «узурпатора» Луи-Филиппа). Самое же любопытное, что обе эти сконструированные России, и республиканская «империя зла», и легитимистская «монархия без страха и упрека», были далеки от реального положения дел в России, которое создателей концепций интересовало очень мало; их ничуть не смущал ни тот факт, что Россия в 1830‐е годы остерегалась провоцировать на военный конфликт какую бы то ни было европейскую страну, ни то обстоятельство, что Николай I вовсе не жаловал приезжавших в Россию легитимистов и воздерживался от каких бы то ни было официальных контактов с ними. В XIX веке, как и в наши дни, и «русофилия», и «русофобия» остаются сугубо «умственными» конструктами, имеющими к реальности отношение самое отдаленное. До реальности ли, когда спор идет об идеалах?
2) Александр Чудаков. «Литературное противостояние двух джентльменов (Чехов и Мережковский)»[82]. Чехов и Мережковский как воплощение двух моделей литературного поведения: Чехов чуждается любого пафоса в экспонировании себя как писателя или мыслителя, его невозможно представить себе сфотографированным на фоне распятия, как Мережковского, он отказывается «вставать на котурны» по поводу чего бы то ни было, даже по поводу увиденной им Италии, и возмущается, когда Мережковский оповещает всех, что Италия ему, Чехову, не понравилась: «Что же я должен был делать? реветь от восторга? Мне даже Болонья понравилась!» Чехов легко совмещает разговор о смерти с поглощением груздей в сметане и желает Мережковскому променять философию на бутылку отменного вина и хорошенькую женщину (этой «плотской» доминанте соответствует чеховское понимание исторического христианства: если, по Мережковскому, оно бесполо и аскетично, то, по Чехову, историческое христианство так же телесно и живо, как современное). В противостоянии Чехов – Мережковский, не принявшем формы открытой вражды и не вышедшем за рамки старомодной «джентльменской» переписки, выразилась ломка эстетического сознания 1890–1900‐х годов: на смену писателю, чья личная жизнь принципиально не делается предметом литературных игр, пришел писатель, в основе публичного поведения которого лежит эпатажность, стремление сделать все свои слова и поступки фактом литературной жизни.
Реплика Александра Жолковского: доклад блестящий, и я делаю то же самое, да вот, кстати, как вам кажется, не является ли чеховская осетрина с душком парафразой духа, пошедшего от отца Зосимы в «Братьях Карамазовых»? И становилось ли это уже предметом анализа? Ответ Александра Чудакова: Игра ваша сильна, но духа там до сих пор никто не видел.
3) Александр Носов. «История одной ссоры (Е. Н. Трубецкой и Л. М. Лопатин)». Споры о праве считаться наследником Владимира Соловьева в кругу сотрудников московского журнала «Вопросы философии и психологии» и Московского психологического общества. До смерти Соловьева члены этого дружеского круга предпочитали не выносить свои теоретические споры на публику, но после смерти великого философа (1900) слишком резко обострилась проблема преемственности. Е. Н. Трубецкой выпускает в 1913 году двухтомник «Миросозерцание В. С. Соловьева» и подробно останавливается во вступительном очерке на своем личном знакомстве с покойным, тем самым присваивая миссию хранителя традиций себе (хотя близко знаком с Соловьевым был, собственно, не он, а его скончавшийся в 1905 году брат, С. Н. Трубецкой). Меж тем самым старинным другом Соловьева был другой московский философ, Л. М. Лопатин, и барышень в купальне в дни далекой юности пугал вместе с Соловьевым именно он, поэтому претензии Е. Н. Трубецкого на бóльшую «близость к телу» Соловьева и потаенному смыслу его философии Лопатина задели – задели настолько, что в 1914 году конфликт вырвался наружу и вылился в большую статью Лопатина в «Вопросах философии и психологии». Спор вели люди высокоученые, подоплека же у него была самая что ни на есть бытовая: кто останется в веках обладателем «крылатки дяди Володи»?
Реплика Абрама Рейтблата: случай интересный, но хотелось бы понять, типичный или нет? Понять пока не удалось.
4) Дмитрий Бак. «Как поссорились Иван Сергеевич с Иваном Александровичем (об историко-литературном смысле конфликта Тургенева с Гончаровым)». Попытка отказаться в рассмотрении знаменитого спора о литературной собственности (сам Тургенев придумал романы «Накануне» и «Дворянское гнездо» или стащил их у медлительного Гончарова и пустил в дело раньше него) от презумпции невиновности Тургенева (которого, как утверждал литературный собрат Григорович, можно раздеть и поставить напротив окна, и даже тогда он будет кристально чист, – перспектива, чрезвычайно воодушевившая аудиторию Банных чтений). Попытка, с другой стороны, отказаться от медицинской трактовки Гончарова как психического больного, страдающего манией преследования, и увидеть в частой смене его настроений, заметной в письмах, не столько неуравновешенность, сколько, напротив, умение тонко отмерять долю иронии (в том числе и над самим собой) и игры. Сходство сюжетов и мотивов между «спорными» романами Тургенева и Гончарова, безусловно, есть, но в писательских позициях несходства было куда больше, чем общности: для Гончарова главным было «двойное зрение», постоянная оглядка, Тургенев же те же самые принципы описывал в своих романах в другой, спрямляющей манере и тем мешал Гончарову впоследствии «играть» с ними.
Реплика Александра Осповата: это очень честный доклад, отлично показывающий, что у нас нет инструментария, который бы позволил понять: что все-таки произошло? Тургенев похитил воздух, атмосферу, а Гончаров это очень тонко почувствовал – вот и все, что мы на данном этапе развития нашей науки можем извлечь из этой истории. Реплика Абрама Рейтблата: кто, собственно, такие мы, о которых толкует Осповат? Ответ Осповата: мы – это те, у кого есть досуг и желание заниматься байками вроде ссоры Гончарова с Тургеневым; такое вот корпоративное единство.
5) Ольга Вайнштейн. «„The observed of all observers“: дендизм как модель поведения»[83]. Предваренное цитатой из третьего акта «Гамлета» (см. название доклада) собрание разных занимательных анекдотов из жизни знаменитого английского денди Джорджа Бреммеля (или Браммела – в зависимости от того, на какую произносительную норму ориентироваться). Бреммель, вводящий в моду новый канон мужской элегантности (костюм, который не должен бросаться в глаза, коротко стриженные волосы, чрезвычайная опрятность, граничащая с брезгливостью, и меняемые шесть раз за день перчатки); Бреммель, сидящий у окошка и дающий оценку внешнему виду прохожих (которые, разумеется, дефилировали там нарочно для того, чтобы этой оценки удостоиться); Бреммель, дерзящий своему большому приятелю принцу-регенту, будущему английскому королю Георгу IV («Что это за толстяк там рядом с вами?» – вопрос, заданный некоему собеседнику принца). Это – фактический план доклада. Теоретическая же его «надстройка» включала в себя апелляцию к психоаналитическим аспектам дендистского поведения (эксплуатация надменным Бреммелем садомазохистских механизмов, «стадия зеркала», Лакан и проч.).
6) Абрам Рейтблат. «Московские альманашники»[84]. Эмпирика в свете теории (докладчик решительно отверг подозрения в своей методологической невинности – тема, активно дебатировавшаяся на Первых Банных чтениях, – начав свое выступление с заверения присутствовавших в том, что он не невинен). Посвящается В. Э. Вацуро. Исследование альманаха как литературной и издательской формы: первоначально являющийся печатным вариантом дамского альбома, книгой-подарком, красивой и дорогой, альманах постепенно утрачивает элитарность, входит в моду и спускается вниз по социальной лестнице. Теперь альманахи составляются не первоклассными авторами, принадлежащими к дворянскому сословию, а мало кому известными литераторами-разночинцами, для которых главная цель – приобщиться таким образом к светской культуре, зачеркнуть свое низкое происхождение, показать: и мы можем составить «приличный» альманах не хуже образованных господ.







