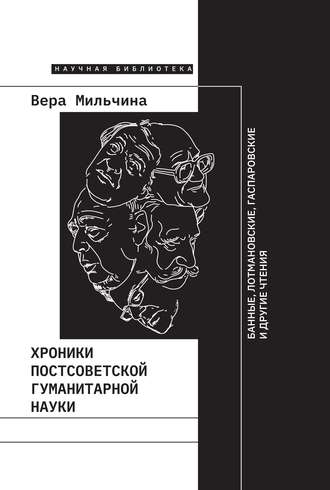
Вера Мильчина
Хроники постсоветской гуманитарной науки
Эйдельмановские чтения
Первые Эйдельмановские чтения
(18 апреля 1991 года)[13]
18 апреля, в день рождения замечательного историка и писателя Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989), в редакции журнала «Знание – сила» состоялись научные чтения его памяти (выбор места объясняется тем, что Натан Яковлевич был верным и давним сотрудником и поклонником этого журнала; по свидетельству одного из участников чтений, он восхищенно говорил: «Это единственное издание в мире, где в редколлегию входят целых три моих одноклассника»). Убранство зала, в котором проходили чтения, наверняка заставило бы довольно усмехнуться Натана Яковлевича, чуткого ко всевозможным «странным сближениям» в пространстве и времени: дело происходило в просторной мастерской фотохудожника, оформляющего журнал, в окружении всевозможных чудес фотоколлажа, вроде мясорубки, изготовляющей фарш из бумажных денег…
Открывая чтения, один из главных организаторов, историк Андрей Тартаковский, подчеркнул их отличие от предыдущих вечеров, посвященных памяти Эйдельмана; следует, сказал он, попытаться перейти от лирических восхвалений к объективной – по возможности – оценке вклада, внесенного Натаном Яковлевичем в науку и литературу.
Этой цели, пожалуй, наиболее полно отвечал доклад Георгия Кнабе «Современное общественно-историческое познание и творчество Эйдельмана», замечательный своей широтой и оригинальностью подхода. Кнабе начал с той исторической среды, которая сформировала Эйдельмана как личность; среду же эту он рассмотрел не только в контексте истории Советского Союза – что само собой разумеется, – но и в контексте истории всей мировой цивилизации во второй половине ХX века. Эйдельман сложился как ученый в 60‐е годы – то есть в эпоху, когда острое осознание того факта, что в предшествующий период макроистория была предельно отчуждена от отдельного человека, привело по контрасту к своеобразному культу микросреды (в качестве примеров этого культа докладчик упомянул такие феномены, как «рок-концерт», «московская кухня», миф об Арбате, а конкретно в творчестве Эйдельмана – повышенное внимание к школе и одноклассникам, отголоском которого стал его интерес к лицейской теме в поэзии и биографии Пушкина). С другой стороны, 60‐е годы – это эпоха, когда повседневность стала формой культуры, а исследователи культуры осознали, что изучать исторический процесс следует через быт, повседневность. В 60‐е годы во Франции окончательно сложилась исповедующая эти взгляды влиятельная школа «Анналов», а в СССР и других странах возникла и стала бурно развиваться семиотика – наука о бытовой среде как знаковой системе; все это – та атмосфера, которая питала творчество Эйдельмана. Однако оно, подчеркнул докладчик, не сводимо к этим источникам. Своеобразие эйдельмановской манеры писать и мыслить, сказал Кнабе, заключалось в том, что в основе ее лежало неразрешимое противоречие между двумя установками: с одной стороны, на художественность, писательство, а с другой – на научное историческое исследование. Два этих подхода в принципе не совместимы: первый предполагает наличие у каждого человека, включая современного повествователя, особого, частного пути; второй – веру в объективную истину, не зависимую от личного опыта исследователя. Тем не менее Эйдельман пытался совместить несовместимое, и именно на этом пути, по мнению Кнабе, ждали его самые большие удачи.
Остальные доклады были посвящены темам менее глобальным; их можно разделить на две категории; к первой относятся выступления, посвященные непосредственно тем или иным аспектам творчества Эйдельмана; ко второй – сообщения на «эйдельмановские» темы (круг же интересов Н. Я. был настолько широк, что включал, как выяснилось в ходе чтений, даже проблему Атлантиды; об этом рассказал геолог и поэт Александр Городницкий).
Из докладов первого рода назову носившее преимущественно мемуарный характер выступление историка декабристского движения Игоря Пороха, доклад Александра Чудакова, рассмотревшего особенности писательской манеры Эйдельмана (обращение со временем, пространством, предметным миром и проч.), и доклад Александра Володина, подчеркнувшего огромное нравственное и историософское влияние, которое оказало на Эйдельмана творчество Герцена. Два докладчика остановились более подробно на конкретных книгах Эйдельмана.
Андрей Немзер в докладе «Вариативность в истории; историческая наука и художественная литература»[14] прокомментировал знаменитый эпизод из книги «Апостол Сергей», показывающий, как развивались бы события, если бы декабристы победили. Докладчик напомнил, что тема «возможной», несбывшейся истории стала крайне популярной в русской литературе последних двух десятилетий; он упомянул в этой связи и проанализировал такие книги, как «Роммат» В. Пьецуха, «Остров Крым» В. Аксенова, «Кенгуру» Ю. Алешковского, «Палисандрия» Саши Соколова. Однако если все названные писатели, по мнению Немзера, убеждены в том, что история при любом развитии событий непременно придет в ту же точку, и испытывают потребность отменить историю в принципе, то Эйдельман в своей «гипотетической» главе исходил из совсем иного – из убежденности в многомерности человеческой личности.
Андрей Зорин в докладе «Павел I в русской литературно-исторической традиции и „Грань веков“» рассмотрел развитие образа Павла I в научной и художественной литературе XIX – начала ХX века. От Пушкина до Ходасевича в русской литературе бытовала традиция, согласно которой Павел представлялся рыцарем-одиночкой, противопоставившим себя толпе и погибшим от ее рук («романтический наш император», назвал его Пушкин); в формировании этой традиции большую роль сыграли многочисленные исторические анекдоты о Павле. С другой стороны, в начале ХX века в исторической науке постепенно сложился взгляд на Павла не как на полусумасшедшего неврастеника, но как на трезвого и последовательного политика, ущемлявшего права дворянства и тем навлекшего на себя гибель. Эйдельман в своей книге совмещает оба подхода, причем чисто научные средства анализа он сопрягает со средствами художественными, в частности, рассматривает Павла сквозь призму двух «вечных образов», которые упоминали, говоря об императоре, еще современники, – образов Гамлета и Дон Кихота.
Крайне любопытен был доклад Александра Ильина-Томича «Биобиблиография Н. Я. Эйдельмана как историко-культурная проблема». Докладчик коснулся темы столь же важной, сколь и деликатной: будучи по призванию просветителем, Эйдельман выступал, кажется, всюду, куда его звали, – и это было великим благом для слушателей. Но до какой степени шло это на пользу его дару историка и исторического писателя? Сколько книг и научных исследований он не успел написать оттого, что растрачивал себя на эту – безусловно крайне важную – просветительскую деятельность?
Несколько докладов, как уже было сказано, касались не творчества Эйдельмана, но тех тем, которые наверняка заинтересовали бы его самого, имей он возможность познакомиться с этими докладами. Вадим Вацуро предложил вниманию аудитории комментарий к одной доселе не откомментированной лицейской эпиграмме Пушкина и блестяще доказал, что осмеянный в ней Арист – не кто иной, как прославленный драматург Капнист[15]. Вера Мильчина и Александр Осповат на примере неопубликованной переписки А. И. и Н. И. Тургеневых, связанной с подготовкой к печати книги последнего «Россия и русские» (1847), показали, как сосуществовали и боролись в русском обществе XIX века два взгляда на миссию литератора. Если многолетний друг Тургеневых В. А. Жуковский считал, что дело литератора – доводить свои реформаторские идеи до сведения императора, ибо он один способен дать им ход с пользой для отечества, то братья Тургеневы придерживались иной точки зрения; они полагали, что право и долг литераторов-публицистов – апеллировать непосредственно к общественному мнению (проблематика, не утратившая своей важности и поныне).
Наконец, два доклада – Игоря Яковенко («Реформы и контрреформы в России») и Ильи Смирнова («Особенности и закономерности русских революций») – были посвящены глобальным культурологическим и историософским проблемам и служили как бы развернутым комментарием к последней книге Эйдельмана «Революция сверху в России».
Заключая этот краткий отчет, скажу, что, если проведение Эйдельмановских чтений войдет в традицию, они имеют шанс стать значительным событием в культурной жизни Москвы.
Вторые Эйдельмановские чтения
(18 апреля 1992 года)[16]
В конце Первых Эйдельмановских чтений, состоявшихся в день рождения замечательного историка и писателя Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989), 18 апреля 1991 года, в Москве в редакции журнала «Знание – сила», главный редактор журнала Григорий Зеленко пригласил всех собравшихся прийти ровно через год, в тот же день 18 апреля, на Вторые чтения. За этот год мы пережили столько событий, что никто бы не удивился, останься обещание, данное в прошлом апреле, невыполненным. Однако благодаря энергии устроителей, редакции журнала и Комиссии по литературному наследству Эйдельмана (председатель – А. Г. Тартаковский), Вторые чтения состоялись.
Открылись они докладом Андрея Серкова «Тайные ордена в России (от Павла I до декабристов)»[17]. Докладчик, изучивший огромный и поистине уникальный материал, хранящийся в российских архивах, изложил свой взгляд на происхождение декабристского движения. Если один из источников этого движения – дружеский кружок, артель, то вторым является масонская ложа, превращающаяся сначала в тайный рыцарский орден, а затем в национально-патриотическую революционную организацию, каким был знаменитый «Орден русских рыцарей». Докладчик показал роль своеобразного мифотворчества в становлении тайных орденов: каждая новая система, отпочковывавшаяся от масонского движения, находила себе исторический «прототип», к которому возводила (не слишком заботясь о фактической достоверности) свою организацию. Так, в России адепты шведской масонской системы называли своими родоначальниками тамплиеров; другой тайный орден XVIII века, «Орден злато-розового креста», связывал свое происхождение с розенкрейцерами; наконец, император Павел I создал в России мальтийский орден, имевший с реальным мальтийским орденом сходство скорее символическое, чем фактическое. Особенный интерес представляли изложенные докладчиком сведения об «Ордене крестовых черных рыцарей», созданном в 1812 году и ставшем непосредственным предшественником «Ордена русских рыцарей». Обе организации были близки по структуре и возглавлялись одними и теми же людьми (ключевой фигурой в «Ордене черных крестовых рыцарей» был Н. И. Тургенев), однако целью первой была борьба с внешним врагом (не случайно возникла она в тот год, когда началась война России с наполеоновской Францией), вторая же выступала против врага внутреннего. Подобная эволюция, по мнению докладчика, также типична для тайных орденов.
Олег Проскурин дал своему докладу название на первый взгляд экстравагантное, но точно соответствующее содержанию – «Миф об „Арзамасе“ в русских доносах и русской мемуаристике»[18]. Дело в том, что первым «мемуаристом», давшим развернутую письменную характеристику знаменитому литературному «обществу безвестных людей», которое противопоставило тяжеловесному «славянофильству» шишковской «Беседы» космополитическое остроумие «галиматьи», был печально известный Фаддей Булгарин, по запросу «инстанций» составивший в 1826 году «Записку об „Арзамасе“». Поскольку членами «Арзамаса», хотя и не самыми активными, были такие видные участники декабристского движения, как Н. И. Тургенев и H. М. Муравьев, напрашивался вывод о неблагонадежности этого литературного общества. Булгарин поддерживает эти обвинения в полной мере, однако приписывает злонамеренность отдельным «арзамасцам», а именно Н. И. Тургеневу и С. С. Уварову (докладчик виртуозно объяснил причины, по которым в доносе оказались уравнены противник рабства Николай Тургенев и будущий создатель теории «православия, самодержавия и народности» Сергей Уваров). Все дальнейшие мемуаристы XIX века, писавшие об «Арзамасе» (Жуковский, Вигель, Блудов, Вяземский), в той или иной степени осознанно полемизировали с Булгариным, всячески подчеркивая «пристойность», благонамеренность «Арзамаса», сугубо несерьезный характер его заседаний. Напротив, советские исследователи по контрасту старались отыскать в деятельности «Арзамаса» черты неблагонадежные, иными словами – революционные, и превозносили это общество не за то, чем оно было, а за то, чем оно едва не стало, и особенно подчеркивали, что вступившие в него на закате его существования М. Ф. Орлов и Н. И. Тургенев едва не сделали его филиалом тайного общества. Меж тем, справедливо заключил докладчик, «Арзамасу» не нужны чужие, революционные лавры; он внес огромный вклад в русскую словесность именно благодаря той культуротворческой «галиматье», которая составляла сердцевину его литературной деятельности.
Георгий Кнабе в докладе «„Пушкин и Мицкевич“ Н. Я. Эйдельмана и семиотика „Медного всадника“»[19] подверг семиотическому и культурологическому рассмотрению восприятие знаменитой Фальконетовой скульптуры. Мелкий, на первый взгляд, факт: люди XVIII века не замечали, что из‐за отсутствия небольшого выступа в передней верхней части скалы постамента копыта коня как бы нависают над бездной. В XVIII веке все «прочитывали» в памятнике лишь тот смысл, который заранее сформулировал скульптор: великий царь, преодолев косность своего народа, возводит его на вершину просвещения. Смысл же памятника, который благодаря пушкинской поэме очевиден для нас, людей XX века («…над самой бездной… Россию вздернул на дыбы…»), был впервые замечен лишь в 30‐е годы XIX века. Это, по мнению докладчика, лишний раз доказывает, что для культуры важна не материальная действительность, но семиотический облик этой действительности; сходным образом борода С. Т. Аксакова, с «парикмахерской» точки зрения сугубо скандинавская, и его зипун, в реальности сшитый у французского портного, единодушно воспринимались современниками как воплощения и символы исконно русского, православного внешнего вида.
В докладе Веры Мильчиной и Александра Осповата «Неизданная переписка А. И. Тургенева с П. Я. Чаадаевым (1835–1836)»[20] была дана характеристика неопубликованных писем А. И. Тургенева, значение которого как эпистолярного собеседника Чаадаева далеко не всегда осознается в полной мере. Вводимые в научный обиход тексты позволяют проследить историю восприятия первого «Философического письма» в среде европейских католиков (среди них – французский философ П. С. Балланш) до его напечатания в «Телескопе» и уточняют представление об идейном споре Чаадаева и Тургенева – двух «диссидентов» (в исконном значении слова), один из которых двигался от официального православия в сторону католической всемирности, а другой – в сторону протестантской терпимости.
Александр Формозов в докладе «Н. Щедрин и историческая наука»[21] показал, как неплохие познания в русской истории и историографии сочетались у автора «Истории одного города» с почти оскорбительным пренебрежением к деятельности конкретных исследователей прошлого, тех самых издателей «Русского архива», «Русской старины» и других бесценных сборников, которым мы обязаны доброй половиной наших познаний об ушедших эпохах (самый красноречивый, хотя и не самый приличный образец презрительного отношения Михаила Eвграфовича к историкам – надпись, сделанная им во время болезни на пузырьке, приготовленном для анализа: «Моя моча. После моей смерти отдать собаке Бартеневу для „Русского архива“»). Впрочем, как справедливо указал докладчик, подобное пренебрежение к науке о прошлом, и в особенности к культуре исторического анекдота, которую так высоко ценил А. С. Пушкин, было свойственно не лично Щедрину, но целому поколению литераторов-разночинцев второй половины XIX века.
Андрей Немзер в докладе «Миф о Сибири в русской литературе» показал на длинном ряде текстов (от «Жития» протопопа Аввакума до «Доктора Живаго» Б. Пастернака), что Сибирь в русской литературе неизменно изображается как аналог преисподней, ада, но одновременно и как земля обетованная, дающая грешнику шанс воскреснуть, исцелиться и обновиться. Особенно любопытны наблюдения докладчика над «Историей государства Российского» Карамзина, где в главе о завоевании Сибири, предшествующей рассказу о смерти Ивана Грозного, это завоевание представлено как своего рода искупление грехов кровавого царя.
Поскольку интересы Н. Я. Эйдельмана были очень широки и отнюдь не ограничивались историко-литературной тематикой, в программу Чтений вошли два доклада, носящие общетеоретический характер и не связанные напрямую с историей русского XIX века, изучению которой посвятил себя Эйдельман.
Игорь Г. Яковенко в докладе «Сталинизм: границы явления»[22] рассмотрел сталинизм как форму перехода от «теоцентристского» к «посттеоцентристскому» обществу (по терминологии докладчика), характерную для православных стран (тезис, вызвавший оживленную дискуссию и несогласие части аудитории).
Наконец, Модест Колеров в докладе «Воссоздание индивидуальности. П. Н. Милюков, М. О. Гершензон, Н. Я. Эйдельман» показал, как три ярких, хотя и далеко не во всем схожих представителя исторической науки решали извечную проблему соотнесения и разграничения в исследуемой личности индивидуального и типичного, того, чем человек обязан собственному темпераменту, и того, что привнесла в его индивидуальность эпоха.
Вторые Эйдельмановские чтения состоялись. Было бы прекрасно, чтобы, сколько бы перемен ни произошло в нашей жизни до апреля 1993 года, 18 апреля следующего года редакция журнала «Знание – сила» вновь смогла бы исполнить свое обещание и созвать докладчиков и слушателей на Третьи Эйдельмановские чтения.
Третьи Эйдельмановские чтения
(20 апреля 1993 года)[23]
Прислушавшись к критике газеты «Сегодня», упрекнувшей редакцию НЛО за то, что отчет о Вторых Эйдельмановских чтениях вышел в свет за неделю до того дня, на который назначены Третьи чтения, спешим сообщить, что Третьи Эйдельмановские чтения состоялись 20 апреля 1993 года.
Успех Третьих чтений объясняется, на мой взгляд, прежде всего тем, что большая часть докладов не носила юбилейно-агиографического характера, а была посвящена тем конкретным вопросам истории литературы и истории России, которыми занимался Н. Я. Эйдельман (круг же таких вопросов, в силу многогранности интересов Натана Яковлевича, был крайне широк). Исключением явился открывший чтения доклад Владимира Порудоминского «Из наблюдений над стилем исторической прозы Н. Я. Эйдельмана»[24], некоторой расплывчатостью и невнятностью рассуждений заметно отличавшийся от остальных выступлений. Докладчик совершенно справедливо утверждал, что Эйдельман не перерабатывал документальные материалы в собственные вещные образы, а использовал те образы, которые предлагались документами, что в его прозе отсутствуют цветовые эпитеты и почти нет диалогов (кроме диалога документов). Однако настораживало недоумение, с которым Порудоминский констатировал, что если в документах упоминается «лодка крестьян», то и Эйдельман в своем тексте постоянно возвращается к этой лодке, а вот если бы в документе стояла «телега», то Эйдельман, наверное, писал бы о телеге. Недоумение это внушало подозрения, что докладчик не совсем четко сознает отличия исторической прозы Эйдельмана от исторической прозы, оперирующей преимущественно образами типа: «он подошел к окну – все было мрак и вихрь». Эта нечеткость восприятия (или изложения) закономерно привела к тому, что один из слушателей поинтересовался, в чем же в конце концов разница между «исторической прозой» Эйдельмана и, страшно сказать, Пикуля (у которого многие из перечисленных «признаков» также присутствуют). «Кощунственный» вопрос очень удачно оживил приунывшую аудиторию и побудил Андрея Немзера произнести монолог об эволюции творчества Пикуля от подражания историческому или нравоописательному роману второй половины XIX века до подражания не кому иному, как Эйдельману, чья популярность среди интеллигентных читателей вызывала у Пикуля соревновательный пыл и на чьей прозе Пикуль явно учился (другой вопрос, насколько уроки пошли впрок). Реплику Порудоминского о том, что главное отличие Эйдельмана от Пикуля состоит в «идейной позиции», очень уместно откомментировал Сигурд Шмидт, напомнивший, что Эйдельман всегда оставался историком-профессионалом, действовавшим в русле современной мировой исторической науки (с которой его роднит, в частности, внимание к каждодневному быту прошедших эпох), что Эйдельман чувствовал и умел изобразить «безымянные» вещи и время, Пикуль же и романисты его толка знают из истории лишь имена и события.
После этой литературно-критической и теоретической интермедии публика обратилась к эпохе Карамзина и Пушкина.
Доклад Сергея Панова «Из литературных отношений карамзинистов» был посвящен механизму формирования литературных репутаций в первой трети XIX века. Если в XVIII веке, чтобы «уронить» противника, достаточно было дискредитировать его тексты, а обвинения, касавшиеся пороков не сочинительских, но житейских, вели к житейским же неприятностям, то в начале XIX века ситуация меняется. Механизмы литературной жизни стараниями карамзинистов оказываются ориентированы на правила светского общежития. Писательский универсум организуется по придворно-светскому и салонному образцам. Карамзинисты ставят в упрек своим противникам их неспособность и неумение следовать нормам правильного светского поведения, причем дурное поведение и писание дурных стихов оказываются взаимозаменяемы и неизбежно служат поводом к осуждению: Булгарин нарушает правила человека чести, следовательно, он плохой автор; Хвостов пишет нелепые стихи, следовательно, он плохой человек (и ведет себя как шут). Конкретный механизм формирования репутации исходя из подобных принципов докладчик продемонстрировал на примере И. И. Дмитриева, главной заботой которого на протяжении всей жизни было создание не столько текстов, сколько собственного имиджа (поведение, парадоксальным образом напоминающее литературные установки новейших постмодернистов – например, Д. Пригова). Пост министра юстиции Дмитриев получил прежде всего потому, что к нему было в высшей степени расположено общественное мнение, а свою отставку использовал для повышения в светском обществе своего литературного веса. Главным оружием его были закулисные литературные интриги и употребление инспирированных им текстов и авторов в качестве «кнута» для наказания литературных противников; одним из финальных эпизодов этой «интриганской» деятельности Дмитриева явилась засылка его сподвижника и поклонника П. А. Вяземского сотрудником в далекий от карамзинистских устремлений журнал разночинца Н. А. Полевого «Московский телеграф».
Олег Проскурин в докладе «Вокруг одной эпиграммы Пушкина» изложил свою версию датировки и истории создания эпиграммы на Стурдзу: «Холоп венчанного солдата, / Благодари свою судьбу: / Ты стоишь лавров Герострата / И смерти немца Коцебу»[25]. По мнению докладчика, эпиграмма была написана не в апреле – мае 1819 года, как обычно считается, а в первой половине июля. Свою точку зрения О. А. Проскурин доказывал с помощью двух аргументов: во-первых, данная эпиграмма обращена непосредственно к своему «герою» и предполагает, что А. С. Стурдза, в ту пору весьма близкий к пушкинскому кругу, находился во время ее написания не за тридевять земель, а в одном городе с Пушкиным, меж тем Стурдза вернулся в Петербург лишь в июле 1819 года. Второй, более весомый аргумент – найденный Проскуриным предполагаемый источник эпиграммы. Это – стихотворение «Загадка», напечатанное в журнале «Благонамеренный» (номер вышел в свет 30 июня 1819 года) и принадлежащее перу В. И. Козлова, поэта, который вызывал несомненный – хотя и не вполне сочувственный – интерес Пушкина и многократно упомянут в качестве «антигероя» в его письмах к брату Льву. «Загадка» схожа с пушкинской эпиграммой как тематикой (в обоих текстах, хотя и с противоположной оценкой, речь идет об убийстве студентом Карлом Зандом литератора и русского шпиона Августа фон Коцебу), так и ритмическим строением и даже рифмами (у Козлова «…увенчан лаврами Марата, / Забрызган кровью Коцебу»).
Лев Осповат в докладе «Петроний и Моцарт в „Каменном госте“»[26] показал, какое большое и важное место занимают в структуре пушкинской «маленькой трагедии» сюжетные реминисценции из новеллы о матроне Эфесской, входящей в сохранившиеся фрагменты романа Петрония «Сатирикон» (свидание у могилы мужа со вдовой, а не с дочерью убитого, как в классическом сюжете о Дон Жуане; любовные ласки у могилы). Шла в докладе речь и о системе «двойников» в «Каменном госте» (двойником Дон Гуана оказывается Лаура с ее гедонистической философией; двойником Командора – суровый проповедник морали Дон Карлос), и о том, каким образом трансформируется в финале пушкинской пьесы финал оперы Моцарта. Все сказанное сделало вполне оправданным и нимало не шокирующим высказанное докладчиком в финале желание назвать одну из работ о Пушкине «Великий комбинатор».
Официальное название доклада Андрея Немзера звучало так: «Карамзин и Пушкин в романе Ю. Н. Тынянова»[27], однако докладчик начал свое выступление с признания, что более правильным было бы перефразировать это название: «Карамзин как Пушкин в романе Тынянова». В самом деле, Немзер очень убедительно показал, что фигура Карамзина в романе Тынянова («семьянин и царедворец», историк, живущий в непосредственной близости от двора с молодой женой) является «теневым портретом» зрелого Пушкина и что, таким образом, роман «Пушкин» можно считать законченным текстом, ибо формально не описанные в нем периоды жизни поэта включаются туда в свернутом, «теневом» виде. Так, вместе с исконно тыняновской темой «потаенной любви» Пушкина к Екатерине Андреевне Карамзиной в роман входят «Каменный гость» и восьмая глава «Евгения Онегина», а метафорическая «смерть» у ног Екатерины Андреевны, обозначающая новое рождение для стихов, опять-таки завершает роман: вместо жизни наступает творчество, следовательно, о жизни говорить и писать уже не приходится. Чрезвычайно интересны были и отмеченные докладчиком связи тыняновского романа с литературным контекстом эпохи Тынянова, в частности с Маяковским и его гибелью, что позволило Немзеру ввести еще одну важную параллель; в романе Тынянова действует не только «Карамзин как Пушкин», но и «Пушкин как Маяковский».
Доклад Кирилла Рогова носил название «Декабристы-немцы»[28]; тему эту, позволяющую ожидать занудного фактографического повествования о ряде (достаточно длинном) декабристов немецкого происхождения, К. Ю. Рогов раскрыл сугубо концептуально. Начав с упоминания изданной анонимно в 1844 году брошюры Ф. Ф. Вигеля «Россия, завоеванная немцами», где была нарисована кошмарная картина более чем векового немецкого засилья в Российской империи, докладчик показал, как сильны были антинемецкие настроения в русском обществе первой половины XIX века, как использовались декабристами для агитации антинемецкие лозунги и как возникла и укрепилась в декабристском движении парадоксальная – но лишь на первый взгляд – фигура немца-русофила (Кюхельбекер, Пестель), который отстаивал идею революционной нации как явления многонационального, дорожил принадлежностью к большинству нации и прославлял «могущественный юный народ», призванный оплодотворить другие народы (слова лифляндца Т.-Э. Бока, по своей воле оставившего службу в Главном штабе по причине главенства там немецкого языка).
Чрезвычайно актуально прозвучала затронутая Роговым тема обвинений «по национальной линии», которыми обмениваются (разумеется, с абсолютной зеркальностью) два противоположных лагеря: если декабристы, как уже было сказано, отстаивали исконно русские начала в противовес немецким (ср. агитационную песню Рылеева и Бестужева «Царь наш – немец русский…»), то правительственные круги, напротив, видели источник декабристского движения в пагубном немецком влиянии (иллюминаты, масоны, «Тугендбунд» и проч.); характерна точка зрения Николая I, согласно которой славянофилы близки декабристам, потому что и те и другие утверждают, что в России власти, включая самого императора, суть немцы и что такое положение нестерпимо.
Очень любопытным и познавательным был доклад Ларисы Захаровой «Письмо-завещание Николая I сыну, „любезному Саше“, 1835 года»[29]. Само по себе это письмо, которое Николай вручил наследнику 30 июня 1835 года, перед отъездом в Польшу, в Калиш, на военный смотр и встречу с тестем – прусским императором, известно с начала 1920‐х годов, когда оно было напечатано в «Красном архиве». Однако Захаровой удалось обнаружить дневник Александра Николаевича 1830‐х годов и больше двух десятков его писем к отцу, относящихся к этому периоду. Найденные документы помогают восстановить любопытнейшие подробности тогдашних семейных и государственных забот царского семейства. Перед отъездом императора в Польшу усиленно распространялись слухи о возможном покушении на его жизнь со стороны мятежных поляков. Именно поэтому император не взял в поездку цесаревича, именно поэтому написал и отдал ему письмо-завещание с надписью на конверте «вскрыть после моей смерти» Поездка закончилась благополучно, 30 октября Николай I прибыл в Петербург и в тот же день затребовал письмо назад, однако уже на следующий день снова вручил его сыну, разрешив распечатать и даже, при желании, предать огласке. В письме этом, которое цесаревич тотчас подробно переписал в дневник, особенно впечатляет нескрываемый страх перед возможным повторением при смене императора событий 14 декабря; Николай учит сына, как вести себя в этом случае («явись на коне на место мятежа»). Что же касается дневника Александра Николаевича, то там, по-видимому, самое захватывающее место – сообщение о том, как в 1832 году отец рассказал ему об убийстве Павла I (память которого весьма почитал). Как справедливо заметил устроитель и председатель Эйдельмановских чтений Андрей Тартаковский, можно себе вообразить восторг и любопытство, которое вызвала бы эта сцена – Николай I, рассказывающий будущему Александру II об убийстве Павла I! – у Натана Яковлевича. Кстати, о Павле: осмелюсь заметить, что не только мне, но и большей части аудитории было чрезвычайно жаль, что Тартаковский, движимый вообще похвальной, но в данном случае весьма прискорбной деликатностью, в последний момент исключил из программы свой собственный доклад «Александр I и павловские ассоциации 1812 года», дабы не утомлять публику; публика уполномочила меня засвидетельствовать печатно, что по такому поводу она бы легко преодолела любую усталость.







