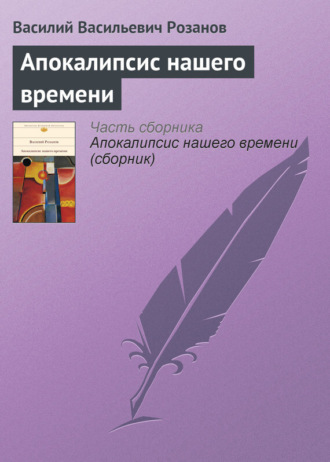
Василий Розанов
Апокалипсис нашего времени
Последние времена
Не довольно ли писать о нашей вонючей Революции, – и о прогнившем насквозь Царстве, – которые воистину стоят друг друга. И – вернуться к временам стройным, к временам ответственным, к временам страшным…
Вот – Апокалипсис… Таинственная книга, от которой обжигается язык, когда читаешь ее, не умеет сердце дышать… умирает весь состав человеческий, умирает и вновь воскресает… Он открывается с первых же строк судом над церквами Христовыми, – теми, которые были в Малой Азии, в Лаодикии, в Смирне, в Фиатире, в Пергаме и других городах. Но, очевидно, не Лаодикия, не Пергам и проч., лежащие ныне в руинах, на самом деле имеют значение для «последних времен», какие имел в виду написатель странной книги. Но он рассмотрел посаженное Христом дерево и уловил с неизъяснимою для себя и для времени глубиною, что оно – не Дерево жизни; и предрек его судьбу в то самое время, в которое церкви только что зарождались.
Никакого нет сомнения, что Апокалипсис – не христианская книга, а – противохристианская. Что «Христос», упоминаемый – хотя немного – в нем, «с мечом, исходящим из уст его» и с ногами «как из камня сардиса и халкедона», – ничего же не имеет общего с повествуемым в Евангелиях Христом. В устроении Неба – ничего же общего с какими бы то ни было представлениями христианскими. Вообще – «все новое»… Тайнозритель Сам, волею своею и вспомоществующею ему Божиею волею, – срывает звезды, уничтожает землю, все наполняет развалинами, все разрушает: разрушает – христианство, странным образом «плачущее и вопиющее», бессильное и никем не вспомоществуемое. И – сотворяет новое, как утешение, как «утертые слезы» и «облечение в белые одежды». Сотворяет радость жизни, на земле, – именно на земле, – превосходящую какую бы то ни было радость, изжитую в истории и испытанную человечеством.
Если же окинуть всю вообще компоновку Апокалипсиса и спросить себя: – «да в чем же дело, какая тайна суда над церквами, откуда гнев, ярость, прямо рев Апокалипсиса» (ибо это книга ревущая и стонущая), то мы как раз уткнемся в наши времена: да – в бессилии христианства устроить жизнь человеческую, – дать «земную жизнь», именно – земную, тяжелую, скорбную. Что и выразилось к нашей минуте, – именно к нашей, теперешней… в которую «Христос не провозит хлеба, а – железные дороги», выразимся уже мы цинично и грубо. Христианство вдруг все позабыли, в один момент, – мужики, солдаты, – потому что оно не вспомоществует, что оно не предупредило ни войны, ни бесхлебицы. И только все поет, и только все поет. Как певичка. «Слушали мы вас, слушали и перестали слушать».
Ужас, о котором еще не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а христианство сгноило грудь человеческую. Вот рев Апокалипсиса. Без этого не было бы «земли новой» и «неба нового». Без этого не было бы вообще Апокалипсиса.
Апокалипсис требует, зовет и велит новую религию. Вот его суть. Но что же такое, что случилось?
Ужасно апокалипсично («сокровенно»), ужасно странно: что люди, народы, человечество – переживают апокалипсический кризис. Но что само христианство кризиса не переживает. Это до того очевидно, до того читается в самом Апокалипсисе, вот «в самых этих его строках», что поразительно, каким образом ни единый из читателей и бесчисленных толкователей этого совершенно не заметил. Народы «поют новую песнь», утешаются, облекаются в белую одежду и ходят «к древу жизни», на «источники вод». Куда ни папы, ни прежние священники вовсе никого не водили.
Блудницы вопиют. Первосвященники плачут. Цари стонут. Народы извиваются в муках: но – остаток от народа спасается и получает величайшее утешение, в котором, однако, ни одной черты христианского, – христианского и церковного, – уже не сохраняется.
Но что же, что же это такое? почему Тайнозритель так очевидно и неоспоримо говорит, что человечество переживет «свое христианство» и будет еще долго после него жить: судя по изображению, ничем не оканчивающемуся, – бесконечно долго, «вечно».
Проведем параллели:
Евангелие – рисует.
Апокалипсис – ворочает массами, глыбами, творит.
В образах, которые силою превосходят евангельские картины, а красотою не уступают им, и которые пронзительны, кричат и вопиют к небу и земле, он говорит, что еще не перешедшие за городки Малой Азии церковки, – первые общины христианские, – распространятся во всей Вселенной, по всему миру, по всей земле. И в момент, когда настанет полное и, казалось бы, окончательное торжество христианства, когда «Евангелие будет проповедано всей твари», – оно падет сразу и все, со своими царствами, «с царями, помогавшими ему», и – «восплачут его первосвященники». И что среди полного крушения настанет совершенно «все новое», при «падающих звездах» и «небе, свившемся как свиток». «Перестанет небо», «перестанет земля», и станет «все новое», ни на что прежнее не похожее. Сказать это за 2000 лет, предречь с некоторыми до буквальности теперь сбывающимися исполнениями, перенесясь через всю христианскую историю, как бы пронзя «рогом» такую толщу времен и необъятность событий, – это до того странно, невероятно, что никакое из речений человеческих поистине не идет в сравнение. Апокалипсис – это событие. Апокалипсис – это не слово. Что-то похоже на то, что Вселенная изрыгнула его сейчас после того, как другой Учитель тоже Вселенной проговорил свои вещие и грозные слова, тоже в первый раз произнеся «суд миру сему».
И вот – два суда: из Иерусалима о самом этом Иерусалиме, главным образом, – об Иерусалиме; и с острова Патмоса – над Вселенною, которую научил тот Учитель.
Нет ли разницы в самой компоновке слов? И, хоть это очень странно спрашивать о таких событиях-словах: нет ли чего показующего для души в стиле литературного изложения}
Евангелие – человеческая история, нам рассказанная: история Бога и человека: «богочеловеческий процесс» и «союз».
Апокалипсис как бы кидает этот «богочеловеческий союз» – как негодное, – как изношенную вещь.
Но фундамент? фундамент? Но – почему? почему?
В образах до такой степени чрезмерных, что даже Книга Иова кажется около него бессилием и изнеможением, что даже «сотворение мира и человека» в Книге Бытия – тоже тускло и слабо, бледно и бескровно, он именно в структуре могущества и показывает суть свою. Он как бы ревет в «конце времен», для «конца времен», для «последнего срока человечества»:
Бессилие.
Конец мира и человечества будет таков, потому что Евангелие есть книга изнеможений.
Потому что есть:
мочь
и – не мочь.
И что Христос пострадал и умер за
не мочь… хотя бы и был в полной
и абсолютной истине.
Христианство – неистинно; но оно – не мочно.
И образ Христа, начертанный в Евангелиях, – вот именно так, как там сказано, со всею подробностью, с чудесами и прочее, с явлениями и т. под., не являет ничего, однако, кроме немощи, изнеможения…
Апокалипсис как бы спрашивает: да, Христос мог описывать «красоту полевых лилий», призвать слушать себя «Марию сестру Лазаря»; но Христос не посадил дерева, не вырастил из себя травки; и вообще он «без зерна мир а», без – ядер, без – икры; не травянист, не животен; в сущности – не бытие, а почти призрак и тень; каким-то чудом пронесшаяся по земле. Тенистость, тенность, пустынность Его, небытийственность – сущность Его. Как будто это – только Имя, «рассказ». И что «последние времена» потому и покажутся так страшны, покажутся до того невероятно ужасны, так вопиюще «голодны», а сами люди превратятся в каких-то «скорпионов, жалящих самих себя и один другого», что вообще-то – «ничего не было», и сами люди – точно с отощавшими отвислыми животами, и у которых можно ребра сосчитать, – обратились таинственным образом в «теней человека», в «призраки человека», до известной степени – в человека «лишь по имени».
О, о, о…
Вот, вот, вот…
Не узнаем ли мы себя здесь? И как тогда не реветь Апокалипсису и не наполнять Престол Небесный – животными, почти – животами, брюхами – все самых мощных животных, тоже – ревущих, кричащих, вопиющих – льва, быка, орла, девы. Все – полет, все – сила. Почему бы не колибри и не «лилии полевые»? Маленькая птичка – хороша, как и большая, а «лилии» не хуже баобаба. И вдруг Апокалипсис орет:
– Больше мяса…
– Больше вопля…
– Больше рева…
– Мир отощал, он болен… Таинственная Тень навела на мир хворь…
– Мир – умолкает…
– Мир – безжизнен…
– Скорее, скорее, пока еще не поздно… Пока еще последние минуты длятся. «Поворот всего назад», «новое небо», «новые звезды».
Обилие «вод жизни», «Древо жизни»…
* * *
Солнце загорелось раньше христианства. И солнце не потухнет, если христианство и кончится. Вот – ограничение христианства, против которого ни «обедни», ни «панихиды» не помогут. И еще об обеднях: их много служили, но человеку не стало легче.
Христианство не космологично, «на нем трава не растет». И скот от него не множится, не плодится. А без скота и травы человек не проживет. Значит, «при всей красоте христианства» – человек все-таки «с ним одним не проживет». Хорош монастырек, «в нем полное христианство»; а все-таки питается он около соседней деревеньки. И «без деревеньки» все монахи перемерли бы с голоду. Это надо принять во внимание и обратить внимание на ту вполне «апокалипсическую мысль», что само в себе и одно – христианство проваливается, «не есть», гнило, голодает, жаждет. Что «питается» оно – не христианством, не христианскими злаками, не христианскими произрастаниями. Что, таким образом, – христианство само и одно, чистое и самое восторженное, зовет, требует, алчет – «и не христианства».
Это – поразительно, но так. Хороша была беседа Спасителя к пяти тысячам народа. Но пришел вечер, и народ возжаждал: «Учитель, хлеба!»
Христос дал хлеба. Одно из величайших чудес. Не сомневаемся в нем. О, нисколько, нимало, ни иоточки. Но скажем: каково же солнце, которое неизреченным тьмам народа дает хлеб, – дает как «по службе», «по должности», почти «по пенсии». Дает и может дать. Даст и, значит, хочет дать?
У солнца – воля и… хотение?
Но… тогда «ваал-солнце»? ваал-солнце – финикиян?
И тогда «поклонимся Ему»? Ему и его великой мощи?
– Это-то уже несомненно. Ему и его великому, благородному, человеколюбивому хотению?..??? Это же невероятно. Но что «солнце больше может, чем Христос» – это сам папа не оспорит. А что солнце больше Христа желает счастья человечеству – об этом еще сомлеваемся, но уже ничего не мог бы возразить Владимир Соловьев, изучавший все «богочеловеческий процесс» и строивший «ветхозаветную теургию» и «ветхозаветное домостроительство» (или «теократию»).
Мы же берем прямо Финикию:
«Ты – ходил в Саду Божием… Сиял среди игристых огней»… «Ты был первенец Мой, первенец от создания мира», – говорит Иезекииль или Исаия, кто-то из ветхозаветных, – говорит городу, в котором поклонялись Ваалу и нимало не Иегове.
Ну, кто же не видит из моих тусклых слов, что «богочеловеческий процесс воплощения Христа» потрясается. Он потрясается в бурях, он потрясается в молниях… Он потрясается в «голодовках человечества», которые настали, настают ныне… В вопияниях народных. «Мы вопияли Христу, и Он не помог». «Он – немощен». Помолимся Солнцу: оно больше может. Оно кормит не 5000, а тьмы тем народа. Мы только не взирали на Него. Мы только не догадывались.
– «Христос – мяса!»
– «Христос – мяса!»
– «На ребра, в брюхо, детям нашим и нам!»
Христос молчит. Не правда ли? Так не Тень ли он? Таинственная Тень, наведшая отощание на всю землю.







