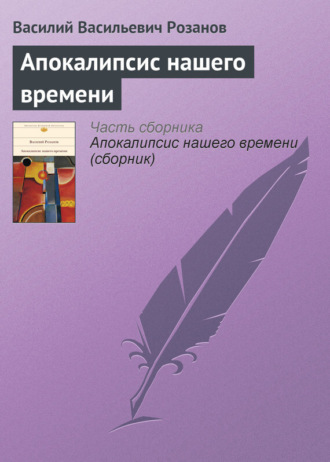
Василий Розанов
Апокалипсис нашего времени
Отношение Розанова к революционным течениям было негативным. С глубоким презрением говорит он о вождях революции. Конкретно-исторический подход к сочинениям писателя позволит осмыслить то отчаяние, которое охватило его в 1918 году при виде всего, совершающегося в России, и о чем писал он «на безумном уголке стола», по его собственному выражению.
* * *
Истоки миросозерцания В.В. Розанова восходят к утверждению им семейного вопроса как главного в жизни общества.
Здесь корень его воззрений на религию и литературу, на философию и политику.
Широко и всесторонне, как никто до него в России, исследовал Розанов проблемы семейной жизни и пола, разводов и незаконнорожденности, холостого быта и проституции и их отражение в законах и религии[60]. Свою книгу «Семейный вопрос в России» он начал с утверждения, что семья никогда не являлась у нас предметом философского исследования, оставаясь темой богатого художественного воспроизведения, поэтического восхищения, даже шуток. Однако семья, по его словам, есть упавшая нашим небрежением с воза драгоценность, которую найдем ли мы опять или нет – неизвестно. Но во всяком случае сначала должна быть восстановлена целостная, прочная, чистая семья – семья как нравственная основа общества.
Полемизируя с журналистом В.К. Петерсеном[61], утверждавшим, что в слишком подвижном обществе, в обществе железных дорог и всевозможной техники, семья неудержимо тает, разлагается, расшатывается, Розанов видит причины упадка семьи в ином.
Достоевский в Пушкинской речи говорил о Татьяне Лариной как об идеале русской женщины, отказавшейся идти за Онегиным, которого любит, и оставшейся со стариком генералом, которого она не может любить и за которого вышла лишь потому только, что ее «с слезами заклинаний молила мать». Розанов решает этот вопрос иначе, ставя во главу угла вопрос о семье и детях. Отсюда его вывод: «Да, «Татьяны милый идеал» – один из величайших ложных шагов на пути развития и строительства русской семьи. Взят момент, минута, взвился занавес – и зрителям в бессмертных, но кратких (в этом все дело) строфах явлена необыкновенная красота, от которой замерли партер и ложи в восхищении. Но кто же «она»? Бесплодная жена, без надежды материнства, страстотерпица…»[62].
Идеал Розанова – основополагающий и твердый, на все годы и бурные времена, стоящий выше разноголосья партий и сект, – в семье, члены которой любили бы друг друга. «Повелевать природою можно, только повинуясь ей»[63], – приводит он афоризм Фрэнсиса Бэкона. Одна любовь укрощает страсть, превращая могучего льва в послушного ягненка. Половая страсть есть сила совершенно неодолимая, пишет Розанов, и существует только одна другая сила, которая с нею справляется: сила любви. «Сильна как смерть любовь», – говорится в «Песни Песней Соломона».
Изъять страсти из семьи, как учила церковь, считает Розанов, – это значит даже не дать ей возникнуть. Страсти – это динамическое и вместе материальное условие семьи, «порох», без которого не бывает выстрела. «Не без улыбки и недоумения я читаю иногда, что причина необыкновенной разрушенности семьи в наше время лежит в сильном действии и притом разнузданных страстей. «Если бы не страсти, семья бы успокоилась». Я думаю, «если бы не страсти» – семья скорее не началась бы»[64].
«Сама ошибка Толстого, бросившего несчастную Анну под поезд, при всем авторском сознании даров ее души, ее прямодушия, честности, ума – лучше всего иллюстрирует странный и темный фанатизм общества против несчастных семей, – продолжает свою мысль писатель. – Даже гений впадал в безумный бред, видя здесь не бедствие, в которое надо вдуматься и ему помочь, а – зло, которое он ненавидел и в тайне души именовал «беспутством». Анна, видите ли, «чувственна», как будто сам Толстой, дитя-Толстой 72 года назад не явился из чувственного акта».
И далее следует чисто розановский вывод, отражающий его отношение к постановке семейного вопроса в русской литературе: «Да, это поразительно, что два величайшие произведения благородной литературы русской, «Евгений Онегин» и «Анна Каренина», посвящены апофеозу бесплодной семьи и – мук, страдальчеству в семье. «Мне отмщение Аз воздам» – слова, которые я отнес бы к нерождающим, бесплодным, – печально прозвучали у великого старца с духовно-скопческой тенденцией, которая после «Анны Карениной» еще сильнее зазвучит в «Смерти Ивана Ильича» (чувство его отвращения к жене и дочери) и наконец станет «единым на потребу» в «Крейцеровой сонате». Любовь как любование, как привет и ласка, обоих согревающая, – это грех»[65].
В книге «Религия и культура» (1899) Розанов делает первую попытку сформулировать свою семейно-родовую теорию пола, определить место семейно-брачных отношений в современной жизни. «Культура наша, цивилизация, подчиняясь мужским инстинктам, пошла по уклону специфически мужских путей – высокого развития «гражданства», воспитания «ума», с забвением и пренебрежением, как незначащего или низкого «удовольствия», всего полового, т. е. самых родников, источников семьи, нового и нового рождения. Все это умалилось, сморщилось…»[66]
Жизнь начинается там, писал Розанов, где в существах возникают половые различия. Растения и те не лишены пола, но совершенно лишены – камни. Половая жизнь – тема всей нашей цивилизации, утверждает он в книге «В мире неясного и нерешенного». В статье «Из загадок человеческой природы» (1898), напечатанной в этой книге, Розанов рассматривает психическую деятельность человека как «гутенберговский перевод гиероглифов пола», который строится с лица как «мысленный свет».
В книге «В мире неясного и нерешенного» дан первый набросок розановского «культа солнца» как жизнетворного начала, в котором воедино сливаются религия, пол и семья. Эта тема получила развитие и на страницах «Апокалипсиса нашего времени», затрагивая, в частности, и так называемый еврейский вопрос, проблему болезненно актуальную сегодня и потому требующую разъяснения.
Еврейский вопрос привлекал к себе пристальное внимание Розанова, как и его «наставника» в литературе – Достоевского, внимательное исследование суждений которого опровергает возводимое на него долгие годы обвинение в антисемитизме.
В записной тетради 1880–1881 годов Достоевский писал о корпоративности как главной отличительной черте еврейского народа. Розанов был не только знаком с данным положением Достоевского, но и развивал его в своих книгах, особенно в «Опавших листьях» и в «Апокалипсисе нашего времени». Поскольку превыше всего – выше различных партий и идеологий, выше шаблонной «нравственности» и церкви – Розанов ставил семью, то не случайно прекрасный образец, «идеал» человеческого общежития он увидел в библейском образе семьи, религиозных нравах, культивировавших семью как единственно важный и нужный организм. В книге «Уединенное» он подробнейшим образом описал еврейский семейный и религиозный обряд «миква» (в 1-м издании 1912 г. сокращено цензурой и восстановлено во 2-м издании 1916 г.).
Тайную, связующую воедино сущность семьи Розанов искал и находил прежде всего у евреев и у древних египтян. Он возвел в апофеоз пол, брак, семью, «чресленное начало», пронизывающее весь Ветхий Завет в отличие от аскетизма Нового Завета, с которым он всю жизнь сражался. И в этой борьбе живые страсти Библии, сексуальное начало в искусстве Древнего Египта, культ животворящего Солнца расценивались Розановым как высшие проявления человеческого духа.
В притче «Об одном народце», входящей в «Апокалипсис нашего времени», Розанов пытается понять, почему этот «малый народ» стал ныне «поругаемым народом, имя которого обозначает хулу». И он обращается к Ветхому Завету как свидетельству былой силы и славы этого народа: «Им были даны чудные песни всем людям. И сказания его о своей жизни – как никакие. И имя его было священно, как и судьбы его – тоже священны для всех народов. Потом что-то случилось… О, что же, что же случилось?.. Нельзя понять…»
Розанов никогда не уставал говорить и писать о евреях, и всякий раз иначе, чем прежде. Известна его предсмертная воля, записанная за две недели до смерти, в которой покаяние и ирония сплелись воедино так, как то бывало лишь у «хитрейшего» Василия Васильевича: «Я постигнут мозговым ударом. В таком положении я уже не представляю опасности для Советской Республики. И можно добиться мне разрешения выехать с семьей на юг. Веря в торжество Израиля, радуюсь ему. Вот что: пусть еврейская община в лице московской возьмет половину права на издание всех моих сочинений и в обмен обеспечит в вечное пользование моему роду и племени Розановых честною фермою в пять десятин хорошей земли, пять коров, десять кур, петуха, собаку и лошадь, и чтобы я ел вечную сметану, яйца, творог, всякие сласти и честную фаршированную щуку»[67]. Следует напомнить, что раздачей национализированной земли в то время ведала «московская община» (Моссовет, во главе которого стоял Л.Б. Каменев).
Незадолго до смерти Розанов составил план издания своего собрания сочинений в 50 томах (девяти сериях). В серии, посвященной религии и охватывающей 15 томов, предполагалось три части: 1) язычество; 2) иудаизм и 3) христианство, причем в томах об иудаизме определены два раздела: статьи с положительным отношением и статьи с отрицательным отношением к нему. Подобно Янусу Розанов одновременно смотрел в разные стороны, «шел в двух направлениях».
Стремление Розанова убрать с пути брака и семьи (и их отражения в литературе) все препятствия, выдвинутые церковью и государством, попытка создать свою интерпретацию культуры, придать ей новое понимание (новые «потенции», как он это называл) предопределили неоднозначное отношение философа к Новому Завету, к христианскому миру.
В письме к Э. Голлербаху 26 августа 1918 года, когда «Апокалипсис нашего времени» был уже закончен, Розанов писал, что эта книга есть «Опавшие листья», на одну определенную тему – «инсуррекция против христианства». Еще в 1908 году в статье «Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира» (вошедшей затем в книгу «Темный Лик»; 1911) Розанов обратился к отношениям между Христом и миром.
Для Розанова Христос есть дух небытия, а христианство – религия смерти, апология сладости смерти. Религия рождения и жизни, проповедуемая Розановым, объявила непримиримую войну Иисусу Сладчайшему, основателю «религии смерти». Религия Христа лишь одно признала прекрасным – умирание и смерть, печаль и страдание.
* * *
Появление в печати трилогии Розанова – сначала «Уединенного» (1912), азатем «Опавшихлистьев» (короб первый, 1913; и короб второй, 1915) – было встречено обывателями от литературы и цензурой, возбудившей судебное преследование против автора, как покушение на нравственность. Началось нисхождение популярного до тех пор писателя и публициста в «геенну огненную», завершившееся через шесть лет «Апокалипсисом нашего времени», представшим и в жанровом, и в идейном отношении дальнейшим развитием основных принципов и тем трилогии.
В основе трилогии, стоящей за пределами того, что до тех пор называли литературой, лежит принцип «случайных» записей, набросков «для себя», подчас бесформенных и непоследовательных, но отражающих процесс мышления, что было для Розанова существеннее любой законченной системы или догмы.
Если в предшествующих книгах и статьях Розанов нередко прибегал к своим излюбленным «антиномиям», ставившим в тупик его читателей и критиков, то в трилогии от «двуликости» он обратился к многоголосию, чем-то напоминающему полифоничность романов Достоевского. Действительно, если подряд читать даже одну из частей трилогии, то создается впечатление разнобойного «шума голосов». Этот шум, подобный тому, что слышал Гоголь, оглушает и «сбивает» вас, как разговор одновременно с несколькими людьми.
Исследователи, обращавшиеся к трилогии Розанова, обычно усматривали в ней исповедальный стиль и в жанровом отношении сравнивали ее с исповедями Августина и Руссо, с «Мыслями» Паскаля, с афоризмами Ницше. Однако для Розанова прежде всего значим опыт Достоевского и Лескова, Н. Страхова и К. Леонтьева.
Розанов попытался сказать то, что до него никто не говорил, потому что не считал это стоящим внимания. Он писал: «Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта», ибо «смысл – не в Вечном; смысл в Мгновениях». «У меня есть какой-то фетишизм мелочей. «Мелочи» суть мои «боги».
Новым в трилогии был тон повествования, «рукописность души», как называл это сам писатель. «Суть нашего времени», – говорил он, – что оно все обращает в шаблон, схему и фразу». Вину за это Розанов возлагает на книгопечатание: «Как будто этот проклятый Гутенберг[68] облизал своим медным языком всех писателей, и они все обездушели «в печати», потеряли лицо, характер». Появилась, пишет он, «техническая душа», с механизмом творчества, но без вдохновения. И отсюда вывод о современной литературе: «Оловянная литература. Оловянные люди ее пишут. Для оловянных читателей она существует».
Разработанный в трилогии особый жанр «мысли» свидетельствовал не столько о том, что в творчестве Розанова, как полагал он сам, происходило «разложение литературы, самого существа ее». Литература конечно же не окончилась «разложением» Розанова, и он не стал «последним писателем». Скорее напротив, он создал вершину жанра, за которой десятилетия спустя последовали все наши «камешки на ладони», «затеей», «бухтины вологодские», «мгновения».
Такие различные в идейном и художественном отношении писатели и мыслители, как М. Горький, А. Блок, Н. Бердяев, А. Ремизов и 3. Гиппиус, были во многом близки в своих оценках Розанова, и прежде всего его главного произведения – трилогии. «Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе» (Бердяев). «Розанов – писатель громадного, почти гениального дарования» (Гиппиус). Прочитав «Опавшие листья», Блок назвал их «замечательной книгой»: «Сколько там глубокого о печати, о литературе, о писательстве, а главное – о жизни». Вместе с тем Блок отметил неоднозначность Розанова, сплетение «таких непримиримых противоречий, как дух глубины и пытливости и дух… «Нового Времени». М. Горький видел в Розанове «фигуру, м. б., более трагическую, чем сам Достоевский».
Октябрьская революция заставила Розанова пересмотреть свои взгляды не только на литературу, на Гоголя и Щедрина («Прав этот бес Гоголь»), но и до крайности обострила его критические воззрения на церковь, религию, государство. Ранее он отрицал церковность и христианство более или менее «традиционно». Таковы его книги «Около церковных стен» (1906), «Темный Лик» (1911, усеченное цензурой издание) и др. Теперь же появилось одержимое неистовство, развернувшееся в десяти выпусках «Апокалипсиса нашего времени». Эти тоненькие брошюрки, наполненные ядом и горечью сердца, – последняя ступень лестницы, на которую писатель ступил за шесть лет до того в книге «Уединенное». Никто не писал так прискорбно о русской литературе и, надо думать, никогда не напишет, как Розанов в «Апокалипсисе». Дело было, конечно, не в литературе, а в скорби за Россию, которая, как то мерещилось ему, «рассыпалась», подобно Петру Петровичу Курилкину в повести Пушкина «Гробовщик».







