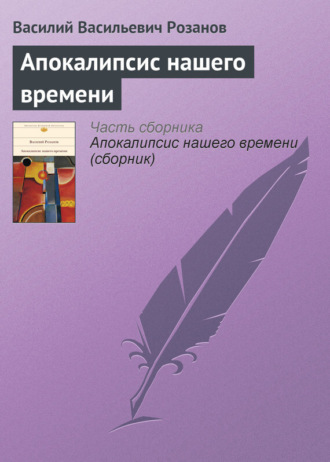
Василий Розанов
Апокалипсис нашего времени
– Как отвратительно… Как отвратителен тон заподозривания среди этого Совета солдатских и рабочих депутатов. Я пришел в Таврический Дворец и не верю тому, что вижу… Я пришел с верою – в народ, в демократию.
Так как я пришел «без веры», то горячо и как бы «хватаясь за его руку», спросил у него:
– Да кто вы?
– Солдат из Финляндии… Стоим в Финляндии… Я, собственно, еврей…
– Я – русский. Русский из русских. Но я хочу вас поцеловать. – И мы крепко поцеловались.
Это было, когда я захотел посмотреть «солдатских депутатов» в марте или апреле 1917 года.
В том же месяце, но много позже:
Угол Литейной и Бассейной. Трамвай. Переполнен. И старается пожилой еврей с женою сесть с передней площадки, так как на задней «висят». Я осторожно и стараясь быть не очень заметным – подсаживаю жену его. Когда вдруг схватил меня за плечо солдат, очевидно нетрезвый («ханжа»):
– С передней площадки запрещено садиться. Разве ты не знаешь?!!!..
Я всегда поражался, что эти господа и вообще вся российская публика, отменив у себя царскую власть «порывом», никак не может допустить, чтобы человек, тоже «порывом», вскочил на переднюю площадку вагона и поехал, куда ему нужно. Оттолкнув его, я продолжал поддерживать и пропихивать еврейку, сказав и еврею: «Садитесь, садитесь скорее!!»
Мотив был: еврей торопливо просил пропустить его «хоть с передней», ибо он спешил к отходу финляндского поезда. А всякий знает, что значит «опоздать к поезду».
Это значит «опоздать и к обеду», и пошло расстройство всего дня. Я поэтому и старался помочь.
Солдат закричал, крикнув и другим тут стоявшим солдатам («на помощь»): «Тащите его в комиссариат, он оскорбил солдата». Я, правда, кажется назвал его дураком. Я смутился: «с комиссариатом я ко всякому обеду у себя опаздаю» (а тоже спешил). Видя мое смущение и страх, еврей вступился за меня: «Что же этот господин сделал, он только помог моей жене».
И вот, я не забуду этого голоса, никогда его не забуду, потому что в нем стоял нож:
– Ж-ж-ид прок-ля-тый…
Это было так сказано.
И как музыка, старческое:
– Мы уже теперь все братья («гражданство», «свобода» – март): зачем же вы говорите так (т. е. что «и еврей, и русский – братья», «нет больше евреев как чужих и посторонних»).
Я не догадался. Я не догадался…
Я слышал всю музыку голоса, глубоко благородного и глубоко удивляющегося.
Потом уже, назавтра, и даже «сегодня» еще, я понял, что мне нужно было, сняв шапку, почти до земли поклониться ему и сказать: «Вот я считаюсь врагом еврейства, но на самом деле я не враг: и прошу у вас прощения за этого грубого солдата».
Но солдат так кричал и так пытался схватить и действительно хватал за руку со своим «комиссариатом», что впопыхах я не сделал естественного.
И опять этот звук голоса, какого на русской улице, – уж извините: на русской пох…ной улице, – не услышишь.
Никогда, никогда, никогда.
«Мы уже теперь все братья. Для чего же вы говорите так?»
Евреи наивны: евреи бывают очень наивны. Тайна и прелесть голоса (дребезжащего, старого) заключалась в том, что этот еврей, – и так, из полуобразованных, мещан, – глубоко и чисто поверил, со всем восточным доверием, что эти плуты русские, в самом деле «что-то почувствовав в душе своей», «не стерпели старого произвола» и вот «возгласили свободу». Тогда как, по заветам русской истории, это были просто Чичиковы, – ну «Чичиковы в помеси с Муразовыми». Но уже никак не больше.
Форма. Фраза.
И вдруг это так перерезало музыкой. Нельзя объяснить, не умею. Но даже до Чудной Девы мне что-то послышалось в голосе. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасе моем».
Я хочу то сказать, что все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко сравнительно с еврейским. Тут тайна Сирии и их жарких стран. Тут та тайна еще, что они Иова слушают не две тысячи лет, а пять тысяч лет, да, очевидно, и слушают-то другим ухом. Ах, я не знаю что… Но я знаю, что не в уме евреев дело, не в деятельности и деловитости, как обыкновенно полагают, а совершенно в ином… Дело заключается, или почти должно заключаться, в какой-то таинственной Суламифи, которая у них разлита во всем, – в ином осязании, в иной восприимчивости к цветам, в иной пахучести, и – как человека «взять», «обнять», «приласкать». Где-то тут. «От человека к человеку». Не «в еврее», а в «двух евреях». И вот тут-то они и разливаются во всемирность.
«Русские – общечеловеки». А когда дело дошло до Армении, – один министр иностранных дел (и недавний) сказал: «Нам (России) нужна Армения, а вовсе не нужно армян». Это – деловым, строгим образом. На конце тысячелетия существования России. Т. е. не как восклицание, гнев, а (у министра) почти как программа… Но ведь это значит: «согнал бы и стер с лица земли армян, всех этих стариков и детей, гимназистов и гимназисток, если бы не было неприлично и не показалось некультурно». Это тот же Герцен и тот же социализм. Это вообще русский нигилизм, очевидно вековечный (Кит Китыч, о жене своей: «хочу с кашей ем, хочу со щами хлебаю»). Опять, опять «удел России»: – очевидно, не русским дано это понимание в удел. Несчастные русские, – о, обездоленные… Опять же евреи: на что – погромы. Ведь это – ужас. И вот все же они нашли и после них все слова, какие я привел, – и порадоваться русской свободе, и оценить русского попа. Да и вообще, злого глаза, смотрящего украдкою или тайно за спиною русского, я у еврея не видал.
Я и хочу сказать, что дело заключается в какой-то деловой всемирности, – не отвлеченной, не теоретической, а с другой стороны, – не вздыхающей и слезливой, а практической и помогающей. Самый «социализм их», как я его ни ненавижу, все-таки замечателен: все-таки ведь социализм выражает мысль о «братстве народов» и «братстве людей», и они в него уперлись. Тут только наивность евреев, которые решительно не так умны, как европейцам представляется, как европейцы пугаются. Они взяли элементарно, первобытно, высчитывая по пальцам: «кто с чем, с каким имуществом живет», и не догадываясь, что все зависит от «как этот человек живет»: что можно жить «с большим богатством – как в аду» (наши Кит Китычи) и можно жить на кухне, «в прислугах» – «счастливее господ». Решительно я замечал, как многие «господа» живут печальнее, грустнее и раздраженнее своих прислуг, которые – по самым лицам их видно – живут «благословясь» и «в благословении». Социализм вообще плосок, доска, – и безмерная наивность евреев, что они восприняли его, что они поверили в такой глупый счет арифметических машин. И я верю, что это непременно и скоро кончится. Им ли, им ли, после их ли истории и судеб, – верить этому… Им ли, которые в неге реализма («будь все как есть») произнесли: «льна курящегося не погаси» и «трости надломленной не переломи», – и которые, если кто богатый обеднеет у них, то община обязана не только содержать его, но и купить ему карету, если прежде была у него карета: дабы он не испытывал перемены в самом уровне своего положения и не скорбел через самую мысль даже о нем… Это именно нега благородства и человечности, и выраженная кухонным, т. е. реальнейшим способом. «Так несчастно живут в их гетто» и их «свиные кагалы». (Мне сообщил это еврей, торговец дамскими ботинками, в совершенно темном вагоне, в СПб., в Варшавском вокзале: он был, что такая у них редкость, немного не трезв). Вот! вот! вот! настоящая идея уравнения бедного и богатого: помощь бедному и помощь богатому, дабы оба держались «на том же уровне», без ощущения разницы температур привычной жизни, жизни – просто отроду. О, гений универсальности и чуткости. Богач может также скорбеть, и страдания его могут быть величайшие. Нельзя завистливым глазом смотреть на богатство. Это – христианство. И чуть ли именно по зависти, а не по «благости» – социализм есть воистину христианское явление. Самый «социализм» или «социализация» – без христианства – выразился бы, пожалуй, в другом, иначе: обедаю сам, но и еще лишнему, гостю, чужому с улицы – даю обед, сажаю с собою его за стол, не отягощаясь, что это – чужой. Социализм выразился бы близостью, социализм выразился бы любовью, а не – «перерву горло» у солдата, закричавшего: «Жид проклятый». Словом, социализм выразился бы тоже одним из таинственных веяний Суламифи, каким – мы не знаем, если бы он был оригинально-евреен, а не подражательно-евреен (от европейцев). Да вот: «Дай я умою ноги тебе», о нищем, о бедном. Тут именно «дотронуться», дотронуться до бедного. Как я и сказал: «Надо пощупать кожу его».
Суть вещей. Суламифь. Ведь вся «Песнь песней» – пахуча. Тайна вещей, что он не «добр», а – нежен. Добро – это отвлеченность. Добро – это долг. Всякий «долг» надоест когда-нибудь делать. Тайна мира, тайна всего мира заключается в том, чтобы мне самому было сладко делать сладкое, и вот тут секрет. «Сними обувь, и я, взяв холодной воды, – проведу по подошвам твоим, по подъему ноги, по
пальцам». Тут так близко, что уже есть любовь. «Я замечу старую морщину у старика – да и так, может выйти случай, шутка около омовения ног». Это вообще так близко, что не может не завязаться шутка и анекдот «около ноги». Ну, вот, видите: а раз – шутка и анекдот, то уже никогда не выйдет холодного, холодного потому – что формального, liberte, fraternite, egalite. К великим прелестям еврейской истории относится то, что при всей древности и продолжительности ее – никогда у них даже не мелькнуло сказать такой пошлости. Такой неверности и такой несправедливости. Ибо ведь нужно и истину и справедливость перевернуть вверх дном, дабы между неодинаковыми, ничего между собою не имеющими общего людьми установить e'galite', да и еще родственное – fraternite.
Прямо чувствуешь франтов и маркизов XVIII века, fin du siecle XVIII-eme[77]. А это:
«Около тебя раба твоя, Руфь…» – «И будет мне по глаголу твоему»… Какие все тоны! Ты плачешь, европеец. Плачь же. Плачь бедными своими глазами. Плачь: потому что в оригинальной твоей истории ты вообще не сотворил таких словооборотов, сердцеворотов, умоворотов. Вся душа твоя – площе, суше, холоднее. О, другое солнце, другое солнце. Другая пахучесть, иные травы. И – посмотрите, королевы ли, маркизы, жены, любовницы: ведь Суламифь – всего только любовница. Любовница? И никто не отрицает. Но жены стоят и рыдают: «О, как хотели бы мы только побыть такою любовницею». И вот – посмотрите чудо, чудо уже в нашей истории и «в строгостях наших»: и церковь не отрицает, что это – только любовница. Но и она рыдает и говорит: «Какое чудо… Я знаю – кто она, эта Суламифь: и – не осуждаю, и обнимаю ноги ее, потому что она вся прекрасна и благородна, и нет лучшей между женами по чистоте мыслей и слов».
И чувствуете ли вы, европейцы, что вот уже и весь мир преображен. Нет ваших сухих категорий, нет ваших плоских категорий. Где юриспруденция? где законы? Нет, где – гордость? А из нее у Европы – все. Вся Европа горда, и из гордости у нее все. Не надо! Не надо! Небо, небо! Неба дай нам. А небо…
Оно там, где рабство. Где рабы счастливее господ. А «где рабы счастливее господ» – это тайна Израиля. Ибо поистине Суламифь была счастливее Соломона, и Агарь прекраснее Авраама. Вот.







