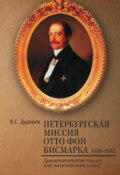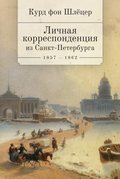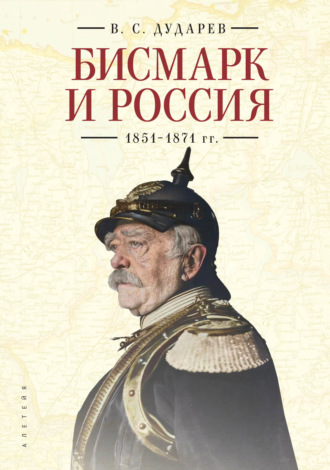
Василий Дударев
Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
Ситуация менялась с такой быстротой, что в дипломатических ведомствах европейских государств не успевали отвечать на одни предложения, как появлялись уже другие. Так, например, в начале апреля Лондон выступил с проектом общего разоружения Франции, Сардинии и Австрии как первого шага на пути созыва конгресса. Обрадованный таким планом, Горчаков с усердием принялся за его воплощение, заявив Бисмарку, что «положение вещей кардинально изменилось»[349]. Однако уже 18 апреля 1859 г. на встрече Горчакова, Бисмарка, Крэмптона и герцога де Монтебелло были озвучены новые планы и предложения сторон. Донесение Бисмарка в Берлин, детально передавшее переговоры дипломатов[350], описывало творившийся в дипломатической переписке между внешнеполитическими ведомствами Европы хаос.
Постепенно противоборствующие стороны убеждались в военном сценарии развития дальнейших событий, как неизбежном исходе противостояния. Острота момента заключалась в том, кто начнет военные действия. Ни одна из сторон не хотела нападать первой, поскольку в таком случае, как считал Бисмарк, «голос всей Европы был бы отдан в пользу стороны противоположной»[351].
Затянувшийся переговорный процесс по подготовке конгресса не находил одобрения в российской столице. Горчаков сообщал Бисмарку, что терпение Петербурга было на исходе. России, по словам Горчакова, «единственно соответствовало бы ведение всеми остальными великими державами между собой войны до изнеможения, в то время как она берегла бы себя, чтобы согласиться на решающее энергичное вмешательство на условиях, служащих ее собственным интересам»[352].
Спустя несколько дней Горчаков отправил российскому посланнику в Вене Виктору Петровичу Балабину телеграмму, содержание которой сообщил и другим российским правительствам. Последовательно излагая историю с подготовкой конгресса и создаваемыми Веной препонами в его проведении, Горчаков резюмировал, что в случае если мир будет нарушен, «вся ответственность падает на венский кабинет, и он должен будет отдать строгий отчет Европе, покой и интересы которой он подрывает»[353].
Горчакова продолжало беспокоить неопределенное поведение германских государств и, прежде всего, Пруссии, рост воинственных настроений в Берлине против Франции и чаяния Австрии на поддержку со стороны Пруссии. После фактического срыва подготовки европейского мирного конгресса прусский нейтралитет являлся последним рубежом, защищавшим Европу от общеконтинентальной войны. Российский министр доказывал Бисмарку, что интересы Пруссии не имеют ничего общего с предстоящей войной. По его мнению, ни одна из европейских стран не была так заинтересована в сохранении мира так, как Пруссия, поскольку в предстоящей войне она не могла рассчитывать на какие-нибудь завоевания или на благоприятный исход в отражении иностранного нападения. К этому он добавил, что «с самого первого мгновения, когда Пруссия вступит в войну, из австрийской война превратится в прусскую, в то время как Австрия получит мирный договор с Францией за счет Пруссии»[354].
Но Россия не собиралась сидеть сложа руки. Горчаков сообщал Бисмарку о твердом намерении российского императора выдвинуть к границе с Австрией войска, чтобы доказать свою готовность к активным действиям. Эта информация была дополнена категоричной фразой Бисмарка: «Если российскому кабинету не удастся получить от Австрии удовлетворения на поле конгресса, тогда она будет искать его на поле боевых действий. Это не личные потребности только лишь князя Горчакова; чувства Его Императорского Величества в этом направлении глубже и более постоянны чувств его министра»[355]. Бисмарк констатировал, что, несмотря на все желание Александра II сохранить мир в Европе, «если же дело дойдет до войны, потребности страны и ее народа отвоевать прежние позиции на нижнем Дунае, и прежде всего, право на флот в Черном море, а так же реакционная экспансия, выходящая за рамки этих целей, будут гораздо сильнее, чтобы дать себя смутить каким-то не русским влияниям»[356].
Прусский посланник отмечал, что Александр II внимательно прочитывал письма Горчакова Балабину перед отправкой в Вену и придавал им более угрожающее прочтение[357].
Помимо жесткой позиции, которую Россия собиралась занять в случае начала войны, Бисмарк указывал на еще одну опасность для Австрии: восстания славянских народов и народные выступления в Венгрии. Бисмарк писал, что Россия попыталась бы использовать симпатии славянского и греческого населения, находившегося под господством австрийских и турецких властей, «несмотря на нерасположение императора к подобного рода мерам»[358]. Перед Австрией, еще не оправившейся от экономических трудностей Крымской войны, возникала вероятность войны на три фронта: в Италии, Венгрии и на Балканах. По мысли Бисмарка, это должно было убедить Берлин в том, что, если из-за политики Австрии по втягиванию Германского союза в войну, в боевые действия в ответ вступит и Франция, то Пруссия будет обречена сражаться с грозным противником на Рейне в одиночку, поскольку австрийской помощи в этом случае не последует.
Акцентом на антиавстрийских настроениях Александра II и рассуждениями о том, что ожидало бы Пруссию, вступи она в войну, Бисмарк пытался повлиять на сохранение принцем-регентом нейтралитета и ослабить попытки Австрии перетянуть Пруссию на свою сторону.
Бисмарк знал о том, что 12 апреля в Берлин по поручению Франца-Иосифа прибыл австрийский эрцгерцог Альбрехт, целью которого было вынудить Вильгельма выйти из выжидательного положения и перейти к активной поддержке Австрии. Бисмарк сердился от своей беспомощности и незнания того, как отвечать на вопросы Горчакова о роли Пруссии в предстоящих событиях. В письме жене 19 апреля он более свободно описал свои чувства: «Наша политика расстраивает меня; на своих же собственных водах мы остаемся плавником, который бесцельно гоним чужими ветрами, и какими ветрами! Дурными и зловонными! Как же редки люди с собственной волей в такой почтенной нации, как наша»[359].
В этих обстоятельствах Бисмарк прибег к хитрому ходу. С особой подробностью он передавал критику Горчаковым нерешительной позиции Пруссии, внимания Берлина не к своим интересам, но чуждым ему интересам Австрии и срединных государств. Бисмарк рассчитывал, что на Вильгельма повлияют слова Горчакова о том, что если Пруссия пойдет на уступки общественному мнению и поддержит Австрию, тогда «нужно будет искать Пруссию во Франкфурте или Вене»[360]. «Если же вы займете позицию, – продолжал министр, – доказывающую, что вы решились руководствоваться лишь чисто прусскими интересами, тогда вы принудите малые государства к желанной вам политике, и тогда уже Германию будут искать в Берлине»[361].
Возможно, письма Бисмарка в Берлин внесли свою лепту в то, что миссия эрцгерцога Альбрехта окончилась ничем, и прусское правительство ограничилось лишь общими заверениями.
Так же безрезультатно завершилась и поездка в Петербург австрийского чрезвычайного уполномоченного графа Алоиза Карольи фон Нагикарольи, о котором говорили, что «он скорее взойдет на виселицу, нежели отправится на конгресс»[362]. По определению Горчакова, «Карольи привез в Петербург „одни фразы, призывы к консервативным принципам и старым симпатиям“»[363].
Когда в Петербурге убедились, что австрийская политика безвозвратно перешла на рельсы войны, Горчаков стал активнее вести себя в отношениях с Францией. Как раз в это время в Пруссии начали распространяться слухи о подробностях подписания секретных соглашений между Россией и Францией. Бисмарк несколько раз спрашивал об этом у Горчакова, но каждый раз получал отрицательный ответ[364], который, правда, не убедил Берлин. В прусском парламенте отказывались верить в то, как Россия, одним из покровителей которой был святой Георгий Победоносец, поражающий змия, могла подписать договор с Францией, лукавые действия которой сеяли вражду и подстрекали к революции в Европе[365]. В адресованном министру Горчакову письме от 27 апреля российский посланник в Берлине Андрей Федорович Будберг спрашивал, какой ему дать ответ Шлейницу на его конкретное высказывание о том, что между Россией и Францией существуют договоренности. «Категорически заявите Шлейницу, что между нами и Францией нет наступательного и оборонительного союза <…> Вы можете подтвердить, что Россия не только не связана никаким наступательным и оборонительным союзом, но располагает и сейчас полной свободой действий»[366].
О всей серьезности предстоящих событий Бисмарк убеждал не только Берлин. Многочисленные дипломаты, представлявшие в Петербурге интересы германских срединных государств, не принимали участие в совещаниях на высшем уровне и обладали лишь той информацией, которую посланники великих держав сочтут нужным им сообщить. Учитывая это обстоятельство, Бисмарк активно пропагандировал среди германских дипломатов мысль о том, что «Россия достаточно сильна, чтобы нейтрализовать вооруженные силы Австрии»[367], а австрийская война против Франции в одночасье может стать германской. Таким путем Бисмарк стремился ослабить давление на Пруссию германского общественного мнения, принуждавшего ее оказать активную военную помощь Австрии.
Ход европейских событий в скором времени потребовал от дипломатов решения новых задач.
27 апреля, когда Бисмарк готовил донесение на имя принца-регента Вильгельма и европейские дипломаты старались разрядить обстановку, австрийские войска перешли итальянскую границу.
Великий князь Константин успокаивал Александра II: «У Тебя, любезнейший Саша, должна быть совесть чиста, потому что Ты со своей стороны сделал все возможное для сохранения мира»[368]. Теперь слово было за военными. Перед дипломатами возникла новая задача локализовать войну итальянским театром боевых действий.
С конца апреля 1859 г. все донесения Бисмарка из Петербурга относительно Итальянской войны содержали в себе основную мысль: вступление Пруссии в войну не соответствует ее государственным интересам, в противном случае это может привести к российскому военному выступлению, что будет означать общеевропейскую войну.
Первые шаги по локализации кризиса предпринял Париж. С позволения Наполеона III герцог де Монтебелло просил Бисмарка передать в Берлин французское предложение о гарантии неприкосновенности территории Германского союза, поддержанное Россией и, при благоприятном исходе, Англией, в обмен на заверения Пруссии оставаться нейтральной во время Итальянской войны. Об этой новости Бисмарк срочно телеграфировал 29 апреля в Берлин, а позже составил подробные отчеты на имя министра Шлейница[369].
Прусский дипломат с воодушевлением воспринял французскую инициативу и внимательно следил за дальнейшими событиями. Он даже на некоторое время покинул проходивший 30 апреля в честь дня рождения Александра II бал, чтобы передать в Берлин телеграмму важного содержания: «Император Александр только что на балу сказал мне лично, что по отношению к нам он желает взять на себя в письменной форме гарантию французского обязательства не нарушать общую союзную границу, если мы пообещаем не нападать на Францию. Его желание ограничить войну в Италии и его предложение связать себя подобным образом обязательством – лучшее доказательство того, что он не имеет никаких внушающих опасение договоренностей с Францией, к тому же лучший способ предотвратить их»[370]. В подобном духе писал российскому посланнику в Берлине министр Горчаков 3 мая: «Постарайтесь елико возможно подчеркнуть намерение императора сохранить в неприкосновенности близость наших теперешних отношений с Пруссией»[371].
Александр II искренне радовался тому, что Пруссия начинала действовать в направлении локализации конфликта[372]. Он ревностно воспринимал попытки извне, идущие в частности из Англии[373], подтолкнуть Германский союз к активным военным действиям. Также российский император переживал от того, что «прочие германские державы с ума сошли и только и бредят идти самим атаковать Францию. Не знаю, удастся ли нам их урезонить, иначе война сделается всеобщею»[374]. Эта же проблема волновала и Горчакова[375].
Волновала она и Бисмарка[376]. Не существование российско-французского договора должно было, по мнению Бисмарка, беспокоить Берлин, а ограждение Пруссии от вступления в войну, не соответствующую ее собственным интересам. К слову, в Берлине эти опасения также имели место. На заседании прусского парламента 12 мая 1859 г. граф Август Цешковский, депутат от провинции Позен, привел в своем выступлении интересные исторические параллели. Он напоминал, что кроме внутренних спасителей Австрии, таких как мадьяры, чехи, хорваты и словаки, у Австрии было и два внешних спасителя. «Эти два внешних спасителя, – продолжал Цешковский, – удержали Австрию на краю пропасти; оба были славянскими монархами, одного звали король польский Ян III СобескийV, другого – император российский НиколайVI. И Вы знаете, мои господа, как Австрия отблагодарила и Польшу, и РоссиюVII». После одобрительных криков парламентских правых Цешковский сделал логическое завершение в духе высказываний Бисмарка: «Я сомневаюсь, мои господа, что в прусском государстве найдется хотя бы один министр, который дал бы совет своему государю стать третьим спасителем Австрии!» Эти слова были громогласно поддержаны правыми[377].
Чтобы продемонстрировать свою решительную позицию в международных делах, Горчаков во время ряда встреч по случаю дня рождения императора Александра II признавался Бисмарку и Крэмптону, что письменные договоренности между Россией и Францией существуют, и их вступление в силу будет зависеть от дальнейшего развития событий. Французский посол герцог де Монтебелло в разговоре с Бисмарком назвал все своими именами: «Между ограниченной территорией Италии войной Франции и Австрии и войной, которая охватит всю Европу и вряд ли сохранит в силе договоры 1815 г., – большая разница. В руках Пруссии избавить мир от большого несчастья»[378].
Чувство непредсказуемости относительно прусской политики в этом вопросе продолжало волновать внешнеполитические кабинеты европейских государств. Раздававшиеся в прусском парламенте мнения только усиливали чувство беспокойства. Так, на очередном заседании прусской палаты депутатов 12 мая 1859 г. известный либерал, основатель «католической фракции» (будущей партии Центр), Август Рейхеншпергер признавал, что подписание договора с Францией соответствовало стратегическим интересам России, желавшей освободиться от оков Парижского мира. Вместе с тем, из двух стран, подписавших этот опасный для Пруссии договор, наибольшую угрозу, по его мнению, представляла не Россия, но именно Франция; и 70-миллионной Германии следовало объединить усилия, чтобы одолеть опасность, угрожающую Европе[379]. Прусские консерваторы предлагали усилить посредническую деятельность Берлина в Лондоне, Петербурге и Вене, чтобы изолировать Париж, чтобы Париж «получил вознаграждение» за свою политику. По мнению видного деятеля прусской консервативной партии Морица фон Бланкенбурга, Пруссии следовало заявить о желании отменить ограничительные статьи Парижского мира 1856 г. и открыть с этой целью переговоры с Лондоном и Веной. Только такой шаг мог заинтересовать Петербург и оттолкнуть его от сотрудничества с Парижем, этим главным очагом европейской революции[380].
Однако Петербург, по мнению Бисмарка, в современных условиях был заинтересован не в эскалации восточного вопроса, но, наоборот, в мирном решении возникающих на Балканах вопросов. Несмотря на поддержку славянских народов, прусский посланник был убежден, что поведение России «не предусматривало использовать бесцеремонным образом ради собственных интересов выгоду, которую ему могло бы предоставить национальное движение в Дунайских княжествах»[381]. Это подтверждают слова самого императора, объяснявшего и причину такого поведения: «Дай Бог, чтобы на Востоке также не заварилась каша, в ней роль наша будет гораздо труднее и может повлечь за собой вновь войну с Англиею»[382].
Учитывая возможность подогревания французами опасного для Австрии балканского котла, Горчаков с началом войны в Италии преследовал цель «умерять французскую политику на Востоке, не давать хода направленным туда замыслам Наполеона, заботиться об утешении там брожения, успокаивать через это Англию»[383]. Переживания Петербурга не были надуманными. Горчаков считал, что великие державы могут прибегнуть к использованию всевозможных средств для достижения победы, в том числе и разгорающийся национальный вопрос. Еще в начале мая Горчаков советовал Киселеву «внушить императору Наполеону желательность того, чтобы его кабинет министров и французская пресса не злоупотребляли термином «национальность», который, по-видимому, стал лозунгом дня. Это неясное и неопределенное выражение всюду вызвало беспокойство. Оно <…> дает в руки противникам французского правительства достаточный повод для обвинения его в сообществе с революционными течениями»[384]. Возмущения и народные выступления в славянских землях Австрии и Турции Россия в нынешних обстоятельствах не смогла бы поддержать, памятуя о недавней Крымской войне. Однако поднятие национального движения в Польше угрожало уже непосредственно государственным интересам самой Российской империи. Россия, считал Бисмарк, отказывалась принимать высказываемые в Париже идеи об организации венгерских и, главное, польских добровольческих полков для использования их против Австрии в Итальянской войне. В письме Киселеву 23 июня Горчаков пояснял: «Мы должны быть уверены, что никогда и ни в каком случае не зайдет речи о польском легионе и ни о чем, что может быть направлено на пробуждение этой национальности»[385]. Горчаков надеялся на мудрость современного руководства Франции и сравнивал Наполеона III с «самым прочным замком ящика Пандоры, который затопит Европу своим содержанием, как только этот замок снимут»[386]. Открыть же французский ящик Пандоры, заполненный революцией, могла, по мысли Бисмарка, лишь Австрия своими агрессивными действиями.
Меж тем в австрийской политике ничего не предвещало перемен. Даже отставка графа Буоля. Новый министр иностранных дел граф Иоганн Бернгард фон Рехберг-унд-Ротенлёвен, которого Бисмарк знал лично еще с Франкфурта, по мнению Петербурга, продолжал вести австрийскую политику проложенным еще Буолем курсом[387]. В середине мая Бисмарк писал о почти угрожающей позиции России по отношению к Австрии. Во время прощальной встречи с графом Карольи Александр II вел себя сдержанно и холодно. Он был раздражен поведением австрийской прессы и дипломатии, смягчивших резкий тон его писем Францу-Иосифу. В ходе беседы император уверил, что «российская армия пойдет на Вену, если Австрия не откажется от системы подстрекательства Германии»[388]. Российский самодержец опроверг австрийские слухи о том, что Вене не следует бояться угроз со стороны Петербурга, но еще раз уверил Карольи, что Россия будет выполнять функции мирового посредника, пока война не покинет границы Италии[389].
С конца мая Европа оказалась в ожидании нового поворота событий. Находившийся еще с 12 апреля в Берлине австрийский эрцгерцог Альбрехт никак не мог добиться от Берлина согласия оказать Вене активную помощь. Принц-регент Вильгельм I, а также министр-президент князь Карл Антон Гогенцоллерн-Зигмаринген в целом поддерживали вступление Пруссии в войну. Однако представители политического окружения принца-регента: министр иностранных дел Александр фон Шлейниц, министр образования и здравоохранения Август фон Бетман-Гольвег, посланник в Союзном сейме во Франкфурте Гвидо фон Узедом, посол в Париже Альберт фон Пурталес – критически оценивали намерения Австрии сохранить верность традициям Германского союза в дальнейшем[390]. Австро-прусские переговоры затянулись. В австрийскую столицу был направлен чрезвычайный посол принца-регента Вильгельма генерал Карл Вильгельм фон Виллизен, который был уполномочен передать согласие принца-регента открыть театр военных действий на Рейне в случае агрессивного вступления Франции в Италию. В случае объявления Францией войны Пруссии Вильгельм требовал передачу Пруссии командования вооруженными силами Германского союза. После длительных переговоров Австрию удалось переубедить заключить соглашение на таких условиях. С этими новостями Виллизен вернулся 31 мая в Берлин[391].
Соглашения, привезенные Виллизеном из Вены, формально выводили Пруссию из наблюдательного положения. Несмотря на то, что 4 июня в сражении при Мадженте австрийцы потерпели поражение и были вынуждены оставить Милан, в который через 4 дня торжественно въехали император Наполеон III и король Виктор-Эммануил II, 14 июня принц-регент объявил о начале мобилизации прусской армии. И хотя она была частичной и проводилась нерешительными темпами, перспектива военных событий на Рейне становилась более угрожающей, чем в начале Итальянской войны. Бисмарк писал жене: «Все это вооружение необдуманно и стоит немалые деньги; возможно, мы, в конце концов, опомнимся, прежде чем из соображений любезности по отношению к малым князьям и Австрии ввергнем всю Европу в пожарище». Бисмарк оставался верен себе в прогнозах относительно будущего Пруссии, случись ей вступить в войну. «Мы не можем сознаться себе, – продолжал он, – ни в том, что Австрия будет уничтожена, ни в том, что она в случае блестящей победы укрепится в своей заносчивости и сделает из нас табуретку для своего могущества»[392].
14 июня, в день объявления о начале мобилизации в Пруссии, Бисмарку пришло из Берлина письмо, в котором Шлейниц ставил довольно непростую задачу: смягчить негодование Петербурга в связи с военными приготовлениями Пруссии. На следующий день, 15 июня, Бисмарк отправился в Царское Село на встречу с Горчаковым, после которой его сразу же принял Александр II. Император заявил о своей поддержке предпринятых Берлином мер, в случае если они направлены на поддержание безопасности Пруссии. Он выразил свое удовлетворение тем, что принц-регент мудро сочетал исполнение союзных обязательств с возможностью восстановления мира. Однако император просил Бисмарка еще раз предупредить Берлин, что начало войны с Францией на Рейне вызовет опасную для всей Европы волну национального движения, в связи с чем необходимо было совершенно исключить возможность франко-прусской войны. Александр II еще раз подчеркнул, что «все мое желание и стремление нацелены на мир»[393].
Эти же темы император поднял во время прогулки с Бисмарком после обеда, на котором присутствовали также А. М. Горчаков и А. И. Барятинский. Он подчеркнул свою основную мысль поддерживать и развивать самое тесное взаимодействие между Россией и Пруссией в деле сохранения мира на континенте.
Б. Э. Нольде отмечал, что эта депеша Бисмарка «окончательно укрепила мирную интерпретацию вооружений»[394] Пруссии и превратила ее «вооруженное посредничество» в посредничество мирное. За одну неделю военный накал в Пруссии спал, и официальный Берлин выступил перед Петербургом и Лондоном с предложениями о своем посредничестве в процессе мирного урегулирования военного конфликта. Как справедливо отметил Чепелкин, тактика Горчакова принесла свои плоды. Российскому министру удалось добиться того, что Берлин не приступил к «вооруженному посредничеству» Австрии без предварительной консультации с другими нейтральными державами[395]. Эти мысли Горчаков изложил в письме на имя российского посла Киселева 1 июля 1859 г. Министр обращал внимание дипломата на то, что «Пруссия <…> продвинулась еще вперед по наклонной плоскости, на которую ее толкнула боязнь показаться недостаточно немецкой». Он подчеркивал, что «тенденция к сближению с Австрией находит только слабый отпор в сопротивлении барона Шлейница, и если эта тенденция сейчас временно приостановлена, то только потому, что принц-регент еще питает надежду сохранить дружбу с Россией. А эта надежда была бы разрушена, если бы мы встали в явно враждебную Германии позицию, и тогда не было бы сомнения в том, какой путь избрала бы Германия»[396].
Тем временем на Апеннинском полуострове происходили важные события, исход которых обеспокоил дипломатические ведомства всей Европы. 24 июня австрийские войска потерпели очередное поражение в битве при Сольферино. На следующий день прусский посланник граф Узедом официально заявил в Союзном сейме во Франкфурте о дальнейшей мобилизации прусской армии.
Обеспокоенный этими событиями Бисмарк писал своему другу тайному советнику Вентцелю во Франкфурт: «Мы вооружились слишком рано и слишком решительно, и тяжесть бремени, которое мы на себя взвалили, бросит нас на наклонную плоскость. Под конец пустятся в драку, чтобы занять чем-то ландвер, поскольку постесняются просто распустить его по домам»[397]. Подобные мысли приводили Бисмарка к пессимистичным выводам. «Наша политика попадает все больше и больше в австрийский кильватер, – сетовал он в письме жене, – в будущее я смотрю очень мрачно»[398].
Несмотря на это Бисмарк всячески поддерживал в Петербурге прусское предложение о посредничестве, понимая, что Берлин пойдет на войну, если только оно будет отклонено Россией. Положительный же ответ Горчакова во многом зависел от позиции Франции, отказывавшейся теперь от одностороннего посредничества Пруссии после объявленной ею в Союзном сейме мобилизации. В Париж тогда было отправлено российское предложение о совместной миротворческой деятельности Пруссии, России и Англии. Ответ на запрос, сделанный через Киселева и герцога де Монтебелло, шел несколько дней, что заставило волноваться Бисмарка. 6 июля телеграммой[399], а 8 июля – в депеше[400] Бисмарк сообщал в Берлин о положительном ответе Франции на прусско-российское предложение.
Ход европейских дел плавно переходил в русло обычной практики кабинетных переговоров, как вдруг Европу ошеломили пришедшие из Италии новости. Присутствовавший в Стрельне на праздновании дня рождения великого князя Константина, Бисмарк отмечал, что все были поглощены обсуждением неожиданно «пришедшего сообщения о заключенном между Францией и Австрией перемирии»[401].
Давая 8 июня 1859 г. свое согласие на подготовку мирного конгресса, Наполеон III в тот же день через генерала Эмиля Феликса Флёри заключил в Виллафранке перемирие с Францем-Иосифом. Уже 11 июня текст прелиминарного мира был подписан сначала австрийским императором, а затем поздно ночью Наполеоном III и Виктором-Эммануилом II. Дальнейшее обсуждение созыва мирного конгресса теряло всякую необходимость.
Пруссия оказалась в пикантном положении с мобилизованными войсками, которые теперь нужно было распускать по домам, и с по сути невыполненным германским долгом. Отдельные германские государства считали, что сохранением нейтралитета Пруссия на самом деле пыталась подмять под себя интересы Германии и навязать ей свои собственные. Мир в Виллафранке они трактовали как моральное поражение Пруссии, не пришедшей на помощь Австрии[402], и как свидетельство необходимости реформирования Германского союза[403].
О том, что час реформ Германского союза пробил, заявляли собравшиеся в Айзенахе в августе 1859 г. либералы и умеренные демократы, на настроения которых оказывали влияние, с одной стороны, полный надежд курс «Новой эры» в Пруссии и результаты военной кампании в Италии – с другой. В Айзенахской программе Германского национального союза 14 августа 1859 г. говорилось об угрозе, нависшей над Германией, о необходимости реформирования Германского союза и о созыве с этой целью общегерманского Национального собрания. А главное, в программе утверждалось, что инициатором этих кардинальных изменений должна выступить исключительно Пруссия, которая в случае очередного вооруженного конфликта в Европе единственно имела право консолидировать под своим руководством все военные и материальные ресурсы Германии для защиты отечества. В этой связи каждый немец вне зависимости от вероисповедания, политических убеждений или гражданства, должен был оказывать посильную помощь прусскому правительству[404].
Бисмарк, очевидно, не знал об этих новостях из Айзенаха, которые его обрадовали бы, но вот подписание прелиминарного мира его обрадовало точно: «Тенденция к миру, – писал он жене 9 июля, – дай Бог, чтобы все удалось!»[405] Прелиминарные договоренности удержали Пруссию от опасности вступления в войну, перспектива которой пугала прусского посланника. Берлин юридически исполнил свои союзные обязательства перед Германией, мобилизовав войска, но избежал войны. Теперь он со всей ответственностью мог упрекнуть Австрию в игнорировании общегерманских интересов и следовании своим собственным. Созданный в воображении Буоля австрийский колосс, доминирующий в Восточной и Юго-Восточной Европе, был разбит ветром европейских событий. Дипломатические просчеты и ошибки в решении германского вопроса поставили этот колосс на одно колено во время Крымской войны и лишили прочной опоры, ударив по второму во время Итальянской войны. Политическая программа, нацеленная на обретение гегемонии в Германском союзе, терпела поражение, и Австрия постепенно уступала свое место Пруссии. По мнению Бисмарка, это давало надежду на интересную для Пруссии перспективу разрешения германской проблемы в будущем.
Происходившие в Европе события оказали влияние также и на внешнеполитический курс России. Петербург был обескуражен таинственностью и скоростью подписания прелиминариев, поскольку в течение всего периода войны он заявлял о своей поддержке Франции и надеялся на то, что император Наполеон III хотя бы предварительно поставит его в известность о своих планах. Л. фон Герлах сделал в своем дневнике интересную запись по этому поводу: «Горчаков остался один, правда, все также убежден в альянсе с Францией, который считает необходимым. Император постоянно демонстрирует свое хорошее отношение к нам»[406]. Уезжая в Германию в отпуск, Бисмарк отправил в Берлин последнюю за 1859 г. телеграмму, которая как будто успокаивала его самого и блестяще подводила предварительный итог его первого периода пребывания в Петербурге: «Император Александр желает установить с нами связи теснее, чем когда-либо, и испытывает по отношению к прозрачности мирных намерений некоторое недоверие. Все было разыграно без ведома России»[407]. Личные чувства императора были задеты. У Бисмарка появилась надежда, что вследствие такой нечестной французской игры Александр II теперь с большим интересом обратит свои взоры в сторону Германии и, конкретно, Пруссии, расставив новые приоритеты в своей внешней политике.