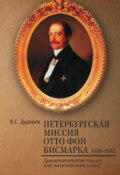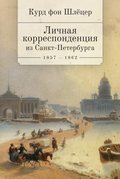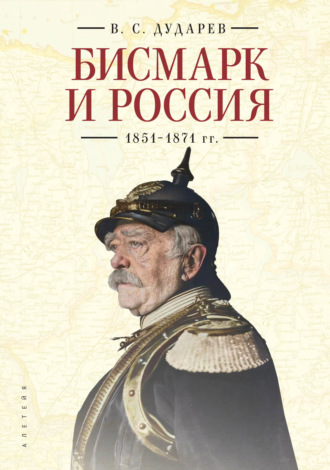
Василий Дударев
Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
В течение всего последующего периода пребывания Бисмарка в Петербурге российский самодержец выражал ему уверения в своем желании поддерживать самые тесные связи с Пруссией. К этому его еще сильнее стали подталкивать события, разгоравшиеся в западных землях Российской империи. Поддержка Францией прав нации на самоопределение набрасывала на нее тень влияния на начало беспорядков в Царстве Польском и еще дальше отдаляла от нее Россию. Стремление российского императора к укреплению взаимоотношений с Пруссией стало сильнее, «с того момента, как (он – В. Д.) почувствовал в Польше французское «чёртово копыто». Е<го> Вел<ичество> лично преисполнен глубоким недоверием в отношении Наполеона»[461].
Обсуждение перспектив прусско-российских отношений между Александром II и Бисмарком продолжилось после возвращения Бисмарка из Пруссии, где он находился с июля по начало ноября 1861 г. в связи с подготовкой и участием в коронации Вильгельма I.
Проверяя настроения императора на возможные изменения в его оценке российско-прусских отношений, Бисмарк выражал надежду на то, что «в случае нападения с Запада можно будет рассчитывать на нашего старого союзника, а именно, Россию». Ответ Александра II обрадовал Бисмарка: «“Вне всякого сомнения“, – сказал на это император при многократном жесте утверждения»[462]. Свое отношение к Пруссии император демонстрировал не только высказываниями в адрес прусского короля, но также и подчеркнуто дружеским расположением к самому прусскому посланнику в Петербурге[463]. Бисмарк обращал внимание Берлина на предположение российского самодержца о том, что Пруссии едва ли удастся добиться от германских князей согласия на увеличение своего могущества конституционным путем, но сама идея этого «будет сопровождаться наилучшими пожеланиями»[464] императора. По мнению Бисмарка, пропрусская позиция Петербурга в германском вопросе оставалась неизменной, по крайней мере, «все здешние государственные деятели и даже сам князь Горчаков» были против реализации любого сценария, следствием которого стало бы ослабление Пруссии[465]. Доказательством этому служило то, что несмотря на потепления в российско-австрийских отношениях, «плохие, т. е. антиавстрийские настроения у большинства российских дипломатов»[466] сохранялись.
Несколько позже, в донесении конца ноября 1861 г., Бисмарк передавал содержание карандашной заметки, сделанной Александром II на полях донесения Будберга из Берлина. Напротив новостей о спорах в Германском союзе император написал: «Vive l’unité allemande!» О том, кого Россия поддержит в германском споре, Горчаков заявил на встрече с Бисмарком 23 ноября 1861 г.: «Мы желаем германского единства и могущества. Мы рассматриваем это как основное положение нашей собственной политики. Наш лучший друг в Германии – это Пруссия, и мы хотели бы, чтобы Германия консолидировалась под прусским руководством <…> в области оборонительной мощи и благосостояния Германии, идущих рука об руку с нашей политикой, невозможно достичь каких бы то ни было практических результатов как только по пути прусского предводительства»[467]. Бисмарк считал, что «император не отклоняет консолидации германских отношений, поскольку он видит в них ручательство за мир»[468].
Бисмарк прекрасно понимал, что охранитель легитимных правительств и тронов, Петербург, станет поддерживать рост могущества Пруссии в Германии до тех пор, пока не поднимется вопрос об упразднении государственной независимости германских княжеств. Теперь Бисмарку важно было очень тонко донести до императора, что политика медиатизации была единственным способом сплотить ведомый прусским локомотивом к цели единой Германии состав германских государств. Прусский посланник выбрал единственно верное в этой ситуации решение подготовить Петербург к подобному развитию событий методом обоснованного убеждения.
Так, например, в беседах с Александром II и Горчаковым он все чаще стал апеллировать к тому, что успех германской обороны зависел от боеспособности Пруссии, а не общегерманских вооруженных сил. Если даже в сравнительно мирное время Пруссии противостоял возглавляемый Австрией мощный лагерь германских государств, среди которых были четыре королевства: Бавария, Саксония, Ганновер и Вюртемберг'"" – то в случае вероятного французского нападения возникала опасность перехода срединных германских государств на сторону Наполеона III. Бисмарк пытался таким образом сформировать у Александра II и Горчакова представление о государственном «одиночестве» Пруссии: «Наша вера основывается только на нас самих и на силе нашего собственного и германского национального чувства»[469]. Германское единство, о котором говорил Петербург, нарушалось, таким образом, самим фактом существования Германского союза. Логический выход заключался в стремлении реформировать сложившиеся отношения в Германии™. В одном из своих писем А. фон Белову Бисмарк выразил это более подробно: «Перед нами двойная задача: свидетельствовать о том, что существование союзной конституции не является нашим идеалом и что мы открыто стремимся к необходимому изменению законным путем, но не хотим через его нарушение всеми необходимыми способами прийти к безопасности и процветанию»[470].
Прусский политик старался убедить в этом официальный Петербург, но времени на эту тонкую работу оставалось все меньше, поскольку с начала 1862 г. Бисмарка ждала новая должность. Еще с февраля в письмах прусского министра иностранных дел Альбрехта фон Бернсторфа звучала мысль о возможном переводе Бисмарка с петербургского поста. Но только в начале апреля он узнал, что его переведут либо в Париж, либо в Лондон. Парламентский кризис, в который входила Пруссия, заставил короля Вильгельма отозвать Бисмарка из Петербурга в Берлин для дальнейших распоряжений.
Прощальная аудиенция Бисмарка у Александра II была одновременно по-дружески трогательной и насыщенной политическими темами и заверениями. «Император в весьма взволнованных выражениях уполномочил меня после возвращения в Берлин устно уверить Ваше Величество в том, – писал Бисмарк Вильгельму I, – что он решил при любых обстоятельствах крепко держаться тесной дружбы с Вашим Величеством. К этому его подталкивают не только кровные узы и унаследованные симпатии его сердца, но самый тесный союз с Пруссией признается единственно соответствующим интересам России»[471].
Идентичные сигналы шли в Петербург и из Берлина. В ходе первой аудиенции, которую Александр II дал новому прусскому посланнику в российской столице Роберту фон дер Гольцу, обсуждались среди прочего и международные вопросы. Через Гольца прусский король передавал императору, что он «придает большое значение продолжению доверительных отношений между двумя дворами и не только вследствие существующих родственных отношений и традиционной политики, но также вследствие естественного значения, которое он уделяет совместному выступлению двух держав по большим политическим вопросам в условиях произошедшего разрушения связей в рамках прежнего альянса». В данном случае речь, конечно же, шла о временах Священного союза. Слова прусского посланника были с радостью встречены Александром II. В конце аудиенции он сообщил Гольцу, что «в своих отношениях к Пруссии будет следовать традициям своего отца и <…> императора Александра I и что он оценивает существующие между двумя дворами связи как неразрывные»[472].
Такая личная позиция Александра II была очень важна для Берлина в особенности при анализе международного положения Пруссии и возможной угрозы, исходящей от российско-французского сотрудничества. Оценивая характер связей между Россией и Францией, Гольц в конфиденциальном донесении Бернсторфу писал: «Поскольку центр тяжести французско-российского альянса, если такие отношения вообще можно считать соответствующими действительности, всегда может быть только в Париже, а не в Петербурге, то и там предпочтительно с нашей стороны использовать рычаги, чтобы сделать их пригодными для нас или бороться с недостатками, угрожающими нам от такой комбинации»[473].
Во второй половине 1862 г. Александр II, очевидно, более укрепился в мысли о российско-прусском сотрудничестве как мощном европейском противовесе Франции с ее поддержкой национального вопроса, особенно угрожавшей и Петербургу, и Берлину в польском вопросе[474].
* * *
В своих письмах в Берлин прусский посланник в Петербурге Отто фон Бисмарк отмечал, что основной целью внешней политики России был выход из международной изоляции и отмена ограничительных статей Парижского мира. По его наблюдениям, Россия нуждалась в мирном решении назревающих в международных отношениях проблем, поскольку от этого во многом зависел успех задуманных Александром II преобразований в самой империи. Бисмарк высоко оценивал роль российского императора в формировании продуманной и последовательной российской внешней политики и укреплении международного положения России, что, правда, разделяли не все его современники[475]. Это корректирует выводы отечественных и западных исследователей о слабой позиции императора в международных вопросах[476] и его следовании за курсом Горчакова[477].
По мнению Бисмарка, у императора и министра были разные представления о союзниках России в Европе. Если российский самодержец выступал за тесное укрепление отношений с Пруссией, то Горчаков считал, что для России первостепенным является союз с Францией.
Итальянская война и национальная политика Наполеона III, фактическое отсутствие французской помощи России в восточном вопросе стали постепенно ухудшать связи между Францией и Россией. Александр II потерял интерес не только к выстраиванию российско-французских отношений в развитие тайного договора 3 марта 1859 г., но и к возможности выстраивания им же ранее предложенного франко-прусско-российского альянса. Своевременно почувствовав эти перемены, Бисмарк практически в каждом петербургском письме настоятельно советовал Берлину отказываться от участия в любых международных акциях, которые могли ухудшить отношения с Россией, и нацелиться на выстраивание конструктивного диалога с Петербургом.
Усилия прусского посланника в сочетании с невраждебным поведением Пруссии по отношению к России, в чем была немалая заслуга Бисмарка, и увлечением Наполеона III национальным движением в Европе привели к переориентации внешнеполитического курса Петербурга в промежуток с 1859 г. по 1861 г. от сотрудничества с Францией к альянсу с Пруссией. В этой связи неоднократные заверения российского императора и даже Горчакова в искренности тесных отношений между Россией и Пруссией можно считать также и определенным успехом дипломатической деятельности прусского посланника в Петербурге.
Бисмарк убедился в том, что в германском вопросе Петербург отмежевался от ориентированной более на Австрию политики Николая I, приведшей к Ольмюцскому соглашению, и стал на сторону интересов Пруссии. Александр II и Горчаков неоднократно уверяли прусского посланника в поддержке Россией процесса консолидации Германии непосредственно под руководством Пруссии.
Относительно спокойная по сравнению с франкфуртским периодом петербургская миссия была омрачена лишь болезнью, с которой Бисмарк сражался не на жизнь, а на смерть. Уже перед отъездом Бисмарк писал Горчакову[478]: «Разрешите мне <…> сердечно поблагодарить Вас за всю доброту и снисходительность, с которыми связаны неизгладимые воспоминания о здешнем моем пребывании и без которых представляется мне затруднительным пост посла во всяком другом месте». Прусский дипломат заверял Горчакова: «Верьте, что я имею благодарную память и что в меру моих сил я и за границей докажу те чувства привязанности, какие воодушевляют меня, помимо всех политических связей, лично по отношению к его императорскому величеству и его любезнейшему министру».
Петербург сыграл важную роль в развитии дипломатического и политического опыта Бисмарка. В российской столице он окончательно пришел к пониманию необходимости реформирования Германского союза и объединения Германии под эгидой Пруссии. Осуществление такого революционного шага было возможно лишь в условиях благоприятного международного положения.
Возникшая у Бисмарка во Франкфурте идея «Поворота на Восток» во время петербургской миссии получила дальнейшее развитие. Познакомившись с российской политической элитой, Бисмарк понял, что такой прусский внешнеполитический поворот был бы положительно оценен и поддержан в России. Но не просто в России, а, прежде всего, самим Александром II. Именно это было крайне важно для Бисмарка, поскольку, находясь в Петербурге, он пришел к выводу о существовании в окружении российского императора серьезных противников развития российско-прусского сотрудничества. В этой связи чувства российского императора стали для Бисмарка своего рода гарантией успешного исхода попытки укрепить отношения между Пруссией и Россией, подтверждением жизнеспособности идеи «Поворота на Восток». Пока это оставалось всего лишь личной идеей Бисмарка, поскольку его влияние на внешнеполитический курс Берлина было ограничено так же, как и в годы франкфуртской дипломатической миссии.
В Петербурге Бисмарк принял решение всеми доступными ему средствами способствовать формированию в России благоприятного отношения к Пруссии и прусской политике. Вскоре события в Польше предоставили ему возможность подтвердить это на деле.
Глава III
Польские скрепы прусско-российских отношений. 1860–1864 гг
На протяжении XIX столетия польский вопрос являлся одним из наиболее взрывоопасных элементов европейской системы международных отношений. Несмотря на то, что после трех разделов Речи Посполитой XVIII в. и Венского конгресса 1814–1815 гг. это государство перестало существовать на политической карте ЕвропыХ, польская проблема неоднократно обращала на себя внимание внешнеполитических ведомств европейских государств. Это драматическое по своей сути славянское противостояние стало важным инструментом во внешнеполитических концепциях одних государств и сложной внутриполитической проблемой для других держав.
В начале 1860-х гг. стечение целого ряда обстоятельств привело к беспорядкам в Царстве Польском. В 1855 г. скончался император Николай I, а почти через год – бессменный наместник Царства Польского фельдмаршал князь Иван Федорович Паскевич. Уход из жизни двух знаковых для российско-польских отношений первой половины XIX в. фигур знаменовали собой окончание периода жесткого управления Польшей.
Начало внутриполитических преобразований Александра II и назначение на пост наместника Царства Польского князя Михаила Дмитриевича Горчакова, «человека старого, нервного, слабого и физически, и нравственно»[479] – все это также оживляло политическую деятельность поляков и ослабляло царскую администрацию в Польше.
Немаловажную роль сыграли международные события. Широкое национальное движение в Италии вдохновляло поляков на мечты о восстановлении независимости Польши. Но главная поддержка пришла с Запада, на который польское освободительное движение традиционно возлагало особые надежды. Французский император Наполеон III, провозгласивший принцип национальностей, неоднократно заявлял о возможности создания венгерских и, главное, польских легионов, как действенной силы против своих основных противников на Востоке. Если позиция России, Пруссии и Австрии в этом вопросе заключалась в отстаивании своих прав на польские земли, то Англия и Франция своей поддержкой польского движения способствовали эскалации конфликта в Европе, что прекрасно понимали не только в Петербурге, но и в Берлине[480].
В первых числах января 1861 г. Бисмарк сообщал в Берлин[481] о состоявшейся встрече А. М. Горчакова с представителями иностранных держав, на которой обсуждались беспорядки в Царстве Польском. Тогда министр заверил, что он «ни при каких условиях не опасается пропольски настроенного движения внутри русских границ», поскольку польское волнение распространяется лишь в польских областях. Он подчеркнул, что единственным следствием польских выступлений станет то, что «до этого пустующие крепостные тюрьмы в Варшаве и не только в Варшаве вновь будут наполнены, и правительство, вопреки желанию императора, вернется к прежней строгости по отношению к полякам». Он был уверен в надежности и верности вооруженных сил, находившихся в крае, и поддержке царской администрации высшим слоем польского общества, подчеркивая, что «польская знать, как никто другой, знает, что в таком случае царскому правительству гораздо труднее будет защитить эту знать от крестьян, нежели себя – и от крестьян, и от знати».
Российская сторона отмечала в разгоравшихся событиях французский след, который был тем заметнее, чем сильнее Наполеон III выступал за поддержку прав наций на самоопределение. Еще летом 1860 г. Бисмарк писал О. Цительману, что «после того как Наполеон дал о себе знать в Польше, здесь все наполнилось большим недоверием»[482]. Также и Горчаков информировал дипломатов, что император был преисполнен «сильными жалобами на французские интриги». Сам же министр выражал уверенность в том, что «Франция ни при каких обстоятельствах не прибегнет к тому, чтобы зажечь всеобщий революционный воспламенитель на востоке Европы, и что с любым движением, лишенным французской помощи, справятся»[483].
Польская проблема постепенно раскалывала Европу на два лагеря. В указанном письме Бисмарк сообщал о подготовке в Вене для Петербурга и Берлина донесений о деятельности революционных партий Италии, Венгрии и Польши, причем «во всех донесениях на передний план выдвигается польский элемент для того, чтобы чисто австрийскую проблему представить как общую задачу трех держав».[484]У Вены появлялась возможность использовать не только восточную политику, но и польский вопрос для налаживания отношений с Россией. Сам Бисмарк к этому относился скептически. Он считал, что Вена не отказывалась от политики, нацеленной на утверждение своего превосходства в Центральной Европе и на Балканах: «Известно, что в Австрии довольно охотно смотрят на то, чтобы в Польше или Шлезвиге[485] мы (пруссаки – В. Д.) или Россия были втянуты в бой»[486]. Таким образом, для упрочения своего положения в Европе Вена охотно могла пойти на эскалацию конфликтов в указанных регионах. Бисмарк сообщал, что в высших ведомственных кругах России если Австрию и не обвиняют в «подстрекательстве варшавских происшествий», то, по крайней мере, считают, что беспорядки в Польше идут на руку Вене[487], а, по мнению Горчакова, настоящей целью Австрии было «придать польскому вопросу больший вес и добиться солидарности трех восточных держав»[488].
В этих обстоятельствах Александр II продолжал полагаться на российско-прусское сотрудничество в урегулировании событий в крае. На состоявшейся в конце января 1861 г. аудиенции император, комментируя опасность венгерской революции для развития событий в Польше, повторил Бисмарку «свою решительность к энергичному вмешательству против любого незаконного порыва и высказал надежду, что в пределах наших (прусских – В. Д.) территориальных границ с этим порывом поступят так же сурово»[489]. Бисмарк советовал Шлейницу занять в польском вопросе ту же непримиримую позицию, что и Александр II. Несколькими днями позже он писал о том, что любые уступки полякам могут вызвать «симптом опасения, как будто мы (пруссаки – В. Д.) боимся чего-то серьезного от наших поляков и не в состоянии их подавить, как только нам этого захочется. Любая видимость слабости увеличивает предприимчивость противников»[490].
Прошедшая 13 февраля 1861 г. в Варшаве манифестация в память Гроховского сраженияXI была разогнана по приказу обер-полицмейстера Варшавы полковника Федора Федоровича Трепова. Беспорядки продолжались, и 15 февраля в Краковском предместье демонстрантам преградили дорогу правительственные войска. После того, как в войска полетели камни, генерал-лейтенант Василий Иванович Заболоцкий дал приказ открыть по демонстрантам огонь. Демонстрацию удалось разогнать. Сложно дать однозначную оценку настроениям в царских войсках в Варшаве. Многие солдаты и офицеры во время февральских манифестаций 1861 г. выражали свое сочувствие демонстрантам. Так, полковники Корф и Бентковский покончили жизнь самоубийством, другие офицеры ломали свои шпаги и громко заявляли, что считают позором убивать беззащитных.[491] В это же время Бисмарк сообщал в Берлин, что «совсем нежелательное впечатление произведет на здешние военные круги и, чего опасаются, на настроение войск, если подтвердится, что офицер, отдавший приказ стрелять, будет отдан под суд»[492].
В ответ на эти события председатель Земледельческого обществаXII, граф Анджей Артур Замойский созвал представителей всех сословий для составления на имя императора Александра II адреса. Авторы адреса в почтительной форме требовали возвращения Польше национальных институтов, что, с их точки зрения, признавалось необходимым условием для существования такого самобытного народа как поляки. 16 февраля депутация из трех человек во главе с архиепископом Варшавы Фиалковским передала это прошение наместнику М. Д. Горчакову для представления императору Александру II.
Понимая взрывоопасность ситуации, М. Д. Горчаков согласился передать этот адрес императору и пойти на некоторые уступки полякамХIII. Однако такая примирительная политика не устроила Петербург. Александр II телеграфировал 16 (28) февраля наместнику в Варшаве: «Теперь не время на уступки, и я их не допущу»[493]. Несколькими днями раньше Бисмарк писал Горчакову: «Его королевское величество <…> телеграфно приказал представить Его Величеству (Александру II – В. Д.) и Вам, князь, что при нынешних обстоятельствах всякая либеральная уступка представляется крайне опасною»[494].
Изучив обмен телеграммами между Александром II и М. Д. Горчаковым за этот период, С. С. Татищев отмечал, что «наместник не мог не заключить, что действия его не вполне отвечают намерениям императора»[495]. Несмотря на то, что Александр II «берег заслуженного старика и ограничивался негласными ему внушениями – действовать с твердостью для поддержания порядка и авторитета законной власти»[496], – в обществе появились слухи о предстоящей отставке М. Д. Горчакова. В качестве возможных кандидатов на пост царского наместника в Польше Бисмарк называл Александра Аркадьевича Суворова, Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Федора Федоровича Берга[497]. Первые два претендента, по его словам, своим резким, жестким характером «могли добиться немедленного разрыва» с примирительной политикой М. Д. Горчакова, которая привела к тому, что «мы (Россия и Пруссия – В. Д.) дошли до распутья, где русская политика в отношении Польши расходится с нашей»[498].
В ответе на адрес варшавских жителей император после некоторых колебаний выразил желание «распространить и на них благотворные действия улучшений, истинно полезных, существенных и постепенных»[499]. Вместе с тем он в резкой форме высказывался о возможных в будущем беспорядках в Польше: «Я не допущу никакого вредного направления, могущего затруднить или замедлить постепенное, правильное развитие и преуспеяние благосостояния сего края, которое будет везде и постоянно целью Моих желаний и попечений»[500].
Более резко был настроен А. М. Горчаков. Он уполномочил Бисмарка передать в Берлин, что «против любой дальнейшей непокорности будут приняты меры самым беспощадным образом», и что распространенное в русских либеральных кругах мнение, «будто император желает сделать некоторые уступки в польском деле, всецело взято с потолка»[501].
События в Польше стали главной темой подробного донесения Бисмарка в Берлин от 12 марта 1861 г.[502] Прусский посланник сообщал, что в Петербурге «боятся, как бы не была предпринята попытка использовать социальный вопрос крепостных отношений для агитации» не только в самом Царстве, но и за его пределами. В российской столице также опасались того, что «польское население возьмет за образец поведение итальянцев по отношению к австрийскому господству», что поляки «пуще прежнего окажут русскому элементу пассивное сопротивление, пронизывающее все сферы жизни»[503].
Эти опасения не были беспочвенными, особенно если учитывать полонизацию «забранного края», как поляки называли западные губернии Российской империи. В своих воспоминаниях Милютин отмечал: «Поляки умели ловко пробираться во все части администрации; занимали влиятельные должности <…> Не говоря уже о том, что в западных губерниях России землевладение находилось почти исключительно в руках польских помещиков»[504]. Ситуация в западных областях империи, по мнению Бисмарка, пока была под контролем царской администрации, и польская агитация «в этой национальной области находила незначительный отклик, поскольку русское и литовское крестьянство в своей родной земле смотрит на польских помещиков не как на земляков, но как на врагов»[505].
Бисмарк сообщал о переживаниях Александра II в связи с выбором пути решения конфликта. Император осуждал применение физической силы, особенно по отношению к духовенству, и осквернение церковной утвари во время разгона демонстрантов, но его «монаршее и военное чувства <…> порицали уступчивость наместника». Такие нерешительные действия, по мнению Бисмарка, угрожали не только внутреннему спокойствию на западе России. В разговорах с Александром II и Горчаковым Бисмарк «самым решительным образом отстаивал то, что любая слабость или уступчивость по отношению к провокациям <…> не только опасны для престижа правительства (России – В. Д.) во внутренней политике государства, но воодушевляет также польскую эмиграцию»[506].
Из-за разных подходов к решению польской проблемы между Бисмарком и Горчаковым в это время даже несколько испортились отношения^. Сторонник ориентации во внешней политике на Францию, Горчаков стал склоняться к проведению ряда реформ в Польше, что благожелательно могло быть встречено на берегах Сены. В связи с этим влияние консервативных взглядов Бисмарка на принятие императором решения по польскому вопросу было нежелательно. «Я противодействую аристократически-революционному поведению высших политических кругов как могу, – писал Бисмарк своему другу Р. фон Ауэрсвальду, – а вместе со мной – принадлежащие к этим кругам государственные деятели немецкого происхождения»[507].
Император выбрал все же путь мирного решения проблемы. 14 (26) марта 1861 г. был издан Высочайший Указ Александра II о реформах в управлении Царством Польским. Он был объявлен в воззвании наместника М. Д. Горчакова к населению 21 марта (2 апреля) 1861 г.ХV В Царстве Польском создавался Государственный Совет, Правительственная комиссия духовных дел и народного просвещения, городские, уездные и губернские советы. Эти значительные уступки обозначили новый курс царской администрации в Польше, противоположный тому, который русское правительство проводило с 1831 г.
К содержанию реформ Бисмарк отнесся критически: «Слишком много для спокойствия и слишком мало для удовлетворения страны, т. е. агитаторов». Оценивая позицию Александра II в эти дни, Бисмарк писал: «У императора неправильное представление о том, что людей вообще можно склонить, он не осознает цели поляков и предоставляет им лишь оружие против России и соседних государств <…> То, что среди советников императора нет никого, кто это понимает, едва ли допустимо <…> Мне едва ли думается, что императору совершенно ясно настоящее направление тех дорог, по которым его ведут; это, по-видимому, известно его путеводителям»[508].
Вильгельму I Бисмарк писал 4 апреля 1861 г.: «Его Величество Император надеется, что новое устройство создаст если и не удовлетворение всех партий, то хотя бы терпимый modus vivendi у большинства поляков». Из «ведомственных и вневедомственных кругов» Бисмарку стало известно о том, что полякам удастся получить большие уступки, «если они и дальше будут шествовать по уже выбранному пути, но с достаточной осмотрительностью и дисциплиной». Беспорядки поэтому не прекращались, поскольку «поляки рассматривали сделанные им уступки как средство получить новые»[509].
В этой связи в Берлине довольно скептически относились к заверениям Александра II в решительности дальнейших действий в Польше, где законная «власть имеет полное право подавлять бунт и отвечать на нападения»[510]. Чуть позже, временно замещавший Бисмарка осенью 1861 г. в Петербурге секретарь прусской дипломатической миссии К. фон Шлёцер, рассуждая о появившихся в российской столице прокламациях «Великорусса» и выдвигаемых в них требованиях немедленного признания независимости Польши, писал: «Я всего лишь спрашиваю: возможно ли было распространение таких прокламаций в правление императора Николая? – Нет <…> всеми слоями общества овладело какое-то брожение»[511].
На выбор Александром II мирного решения конфликта, по мнению Бисмарка, могло оказать влияние существовавшее в российском обществе, как он говорил, старорусское либеральное дворянство. Бисмарк считал губительными распространяемые в этой «партии» представления о том, что «обладание Варшавой является тяжелым бременем для России и что без опасности для последней можно пойти на создание независимого польского государства»[512]. По мнению Бисмарка, вместо Царства Польского представители этой партии «жаждут компенсацию во владении русинскими православными восточными землями Галиции, на Востоке»[513], что противоречило государственным интересам России. Он связывал политику этой дворянской группы скорее с происходившими в России социальными изменениями в крестьянском вопросе™ и подчеркивал: «Они предвидят, что император позволит им в России также много, как и полякам; они надеются отыграть политические права, которые они потеряли в социальной сфере вследствие отмены крепостного права»[514]. Прусский посланник отмечал, что «эти идеи не представлены политическими фантастами, но влиятельнейшими людьми в зрелых годах, чье мнение, вследствие их ведомственного положения, оказывает влияния на правительственные постановления». Бисмарк не называл имен, что свойственно его донесениям, но несомненно то, что они входили в петербургский круг общения Бисмарка, поскольку ему неоднократно «удавалось убеждать их в абсурдности этих идей»[515].
Еще со времен франкфуртской миссии Бисмарк категорически отрицал возможность предоставления Польше независимости, поскольку восстановление Польши автоматически поднимало вопрос об отторжении от Пруссии провинции Позен. Польские области, в которых проживало полтора миллиона человек, были важным регионом Прусского королевства, особенно с точки зрения промышленного развития этих территорий и их сельскохозяйственного значения. Даже прусские либералы, считая поляков отважной, разделенной нацией, поднявшей мятеж против своих угнетателей, все же не поддерживали восстановление их былого государства[516].