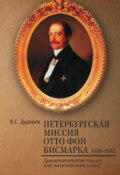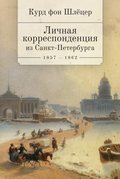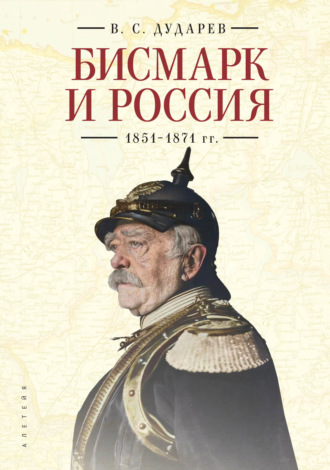
Василий Дударев
Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
Он был огорчен своим новым назначением, поскольку имел все поводы полагать, что был бы полезен Пруссии именно во Франкфурте, «этой лисьей норе Союзного сейма, где я изучил все ходы и выходы вплоть до малейших лазеек»[303]. Он не смог добиться сохранения франкфуртского поста во время аудиенции у принца-регента 26 января 1859 г. Передавая свой разговор с Вильгельмом, Бисмарк писал, что «главной его целью было представить мое назначение в Петербург в виде своего рода отличия»[304].
Официальное назначение Бисмарка на новую должность последовало 29 января 1859 г. Этот перевод можно было расценивать в то время как дипломатическую ссылку и отлучением его от активного занятия германским делами. Тем не менее, учитывая консервативно-монархические убеждения и пруссачество Бисмарка до мозга костей, Берлин был вправе ожидать от Бисмарка в Петербурге лишь преданного служения интересам Пруссии и монарху Вильгельму.
* * *
После политического проигрыша в Ольмюце Берлин с большим вниманием следил за происходившими в Союзном сейме дискуссиями и обсуждениями внутригерманских вопросов. Во Франкфурт-на-Майне был отправлен подающий надежды человек, подтвердивший в революционные дни 1848–1849 гг. свою преданность Прусскому королевству. При всей спорности поведения Отто фон Бисмарка во Франкфурте и буре негодования, которую он вызвал впоследствии среди представителей германских государств, его политические противники высоко оценивали его способности, талант, четкое понимание целей и задач и отстаивание исключительно прусских интересов в Сейме. Даже австрийский представитель и председатель Союзного сейма граф Фридрих фон Тун-Гогенштайн высоко отзывался о личных качествах Бисмарка. Он особенно выделял в нем «благоразумие, абсолютное соблюдение законности, безукоризненность его монархически-консервативного принципа в больших политических вопросах»[305].
Назначение в 1851 г. дипломата с консервативными взглядами на должность представителя Прусского королевства при Союзном сейме соответствовало общему направлению внешней политики Берлина. Бисмарк поддерживал положения консервативной партии Пруссии в вопросах внутренней политики, однако его взгляды на международную ориентацию Пруссии выделяли его из числа консерваторов, считавших главным союзником Австрию, и либералов, выступавших за тесные отношения с западными странами.
Анализ картины международных отношений позволил Бисмарку прийти к выводу, что единственным выходом из сложившейся для Пруссии ситуации было укрепление отношений с Россией. Такая идея «Поворота на Восток» явилась серьезной альтернативой проводимой Берлином внешней политики, ориентирующейся на сотрудничество с державами Запада, с которыми, по мысли Бисмарка, у Пруссии было гораздо больше противоречий и спорных вопросов, чем с Россией. В выборе такого пути Бисмарк совершенно не руководствовался какими-то личными симпатиями к России, но ориентировался исключительно на реальности своего времени. Безусловно, возможность влияния Бисмарка из Франкфурта на политику Берлина была ограничена. К тому же его взгляды были крайне непопулярны среди прусских политических кругов и вызывали жесткую критику в самом Союзном сейме. Однако эта пока еще идея «Поворота на Восток», к которой пришел Бисмарк во Франкфурте, безусловно, важна для понимания направления его внешней политики в дальнейшем.
Приводимые документы показывают, что Бисмарк опровергал агрессивность внешней политики Николая I, отмечая в ней скорее приверженность традиционализму и консерватизму, и делал вывод об отсутствии прямой угрозы Пруссии со стороны России.
С началом Крымской войны Бисмарк отмечал, что традиционная для николаевской России международная ориентация на Германию была разрушена. Основная вина в этом лежала на «неблагодарной» Австрии, занявшей антироссийскую позицию. Пруссию от такой же ошибки отделял всего лишь один шаг, который Берлин так и норовил совершить, опасаясь остаться в одиночестве, при выборе позиции нейтралитета. Обозначая наметившиеся перемены во внешней политике России, Бисмарк на протяжении всей войны призывал Пруссию к четкому следованию политике нейтралитета для максимального ослабления не только российско-австрийских связей, но и для более самостоятельного поведения Пруссии в международных отношениях. По мнению Бисмарка, политика нейтралитета давала Пруссии возможность рассчитывать в будущем на российскую помощь в решении германского вопроса.
С такой позицией был совершенно не согласен набиравший в Пруссии политический вес принц Вильгельм. В приглашении западными державами Пруссии на Парижский конгресс, где мнение Пруссии особо никем и не учитывалось, в видимости участия Пруссии в решении судеб континента Вильгельм и поддерживающие его либеральные круги видели признание европейскими державами политического веса Пруссии, подтверждение принадлежности Пруссии европейской пентархии.
Стремление к прусско-российскому единству сохранилось в политической программе Бисмарка и после окончания войны, когда происходила определенная трансформация европейских международных отношений. На заседании прусского парламента 20 февраля 1858 г. лидер консервативной партии Эрнст Людвиг фон Герлах поставил риторический вопрос: «Положение в мире изменилось; знамя революции, которое из Франции было водружено здесь, в Германии, исчезло; сейчас же во Франции и во всей Европе популярен цезаризм. Несколько лет тому назад предпринималась попытка подтолкнуть Пруссию в союзе с Францией к войне против России. Сейчас же Франция и Россия живут в согласии и мире»[306]. Прусский посланник с настороженностью следил за таким потеплением в отношениях между Россией и Францией, тесные объятья которых грозили раздавить слабую в то время Пруссию.
Быстро ориентируясь в новых условиях, он выдвинул довольно революционную для прусских политических кругов идею о нецелесообразности для Пруссии противиться такому союзу, но необходимости постучаться в него с предложением о вступлении. А дальше время расставило бы все по своим местам, ведь даже если географическое положение и международные обстоятельства и способствовали налаживанию российско-французских отношений, то
в польском вопросе, актуальном для двух стран, интересы России и Франции, по мнению Бисмарка, резко расходились.
Расхождение Петербурга и Парижа во мнениях относительно решения польского вопроса, по мысли Бисмарка, привело бы в дальнейшем к пониманию российскими политическими кругами необходимости укрепления отношений с Пруссией. Сохранение status quo в Польше становилось в этом случае одним из крепких связующих звеньев между Пруссией и Россией, потому что восстановление независимой Польши, по мнению Бисмарка, означало бы военно-стратегическую катастрофу и нарушение территориальной целостности двух государств.
Эти и другие планы территориального разделения Российской империи, выдвинутые западными политиками во время Крымской войны[307], Бисмарк называл «ребяческими утопиями», он также критиковал попытку германских либералов «рассматривать в своих планах будущей Европы 60 миллионов великороссов как caput mortuum[308]» и перспективу «этот народ <…> как угодно третировать, не превращая его тем самым неизбежно в союзника всякого будущего врага Пруссии»[309], что, к слову, разделял и сам прусский король Фридрих-Вильгельм IV[310].
В Берлине Бисмарка за такие мысли стали подозревать в симпатиях к России и Франции. Однако во Франкфурте политические оппоненты прусского посланника неоднократно могли убедиться в его преданности Пруссии. Передавая однажды в письме австрийскому министру-президенту К. Ф. фон Буоль-Шауэнштайну содержание очередного спора с Бисмарком, председатель Союзного сейма И. Б. фон Рехберг унд Ротенлёвен особенно выделил: «Бисмарк пришел в такое волнение, что проговорился: „я являюсь прусским посланником и должен защищать интересы Пруссии, а не <Германского> союза“»[311]. В переписке с Мантейффелем и Герлахом Бисмарк более откровенно раскрывал истинную цель своей политики, заключавшуюся в защите государственных интересов исключительно Пруссии: «Сообщения из Берлина говорят мне, что при дворе меня считают бонапартистом. Ко мне несправедливы. В 50-е годы мои противники обвиняли меня в предательской симпатии к Австрии и нас называли вёнцами в Берлине; позднее решили, что мы пахнем юфтью, и назвали нас казаками со Шпрее. В то время на вопрос, я – за русских или западные державы, я всегда отвечал – за Пруссаков, и мой идеал во внешней политике – свобода от предубеждений и независимость от симпатий или антипатий по отношению к иностранным государствам и их правителям <…> Я с одинаковым удовлетворением буду смотреть на наши войска, сражающиеся против французов, русских, англичан или австрийцев, как только мне докажут, что это находится в интересах здравой и хорошо продуманной политики Пруссии»[312]. В конце 50-х гг. Бисмарк считал, что война с Россией полностью противоречила интересам Пруссии, поскольку настоящих причин для нее в тот период не существовало.
Франкфуртская корреспонденция Бисмарка свидетельствует о том, что он считал Россию довольно сильной и могущественной для реванша за свое поражение, несмотря на ее тяжелое внутреннее положение после войны. Для этого, по его мнению, необходимо было мудрое управление страной. Еще во время Крымской кампании он был удивлен тому, что Россия вступила в борьбу с грозными соперниками материально и стратегически неподготовленной, опираясь лишь на храбрость своего народа.
Для необходимых изменений требовались личности, которые смогли бы взять на себя бремя управления страной в непростое время. Находясь во Франкфурте, Бисмарк имел смутное представление о государственных деятелях России. Он лишь составил для себя первое впечатление о будущем министре Горчакове, которое было, к слову говоря, нелицеприятным. Бисмарк считал его «тщеславным и церемониальным господином»[313]. В письме Герлаху он был более откровенен и посвятил князю следующие строки: «Горчаков – церемониальный и негибкий Ганс-дурак[314], лиса в деревянных башмаках, когда он хочет схитрить»[315]. По мнению Бисмарка, политическая тонкость и дипломатическая сноровка отсутствовали у Горчакова, и если он хотел схитрить, то это получалось у него грубо. Возможно, 39-летний Бисмарк еще не понимал политических приемов 56-летнего дипломата и видел в них лишь прямолинейные ходы, лишенные гибкости и хитрости.
Об императоре Александре II Бисмарк не писал во Франкфурте, лишь однажды отметив, что ему выпадает сложная участь управлять империей в такие нелегкие для России времена. С новым российским императором и его политическими взглядами прусскому дипломату предстояло познакомиться в Петербурге, куда он был назначен на должность посланника Прусского королевства. Убедиться в жизнеспособности своей идеи «Поворота на Восток» Бисмарк мог лишь только после знакомства с этим Востоком и понимания того, насколько такой поворот Пруссии был бы поддержан на этом Востоке, в России.
Глава II
«Замерзая на Неве», но растапливая лед: Бисмарк и прусско-российские отношения в 1859–1862 гг
Петербургская миссия является важным этапом политической деятельности Бисмарка. После изматывающих восьми лет работы в Союзном сейме находившийся в состоянии физического и эмоционального истощения Бисмарк получил назначение в далекую по европейским меркам Россию. В дружеском письме Дж. Т. Мотли писал Бисмарку 16 февраля 1859 г.: «Ты действительно едешь в Петербург?.. Я не могу выразить, как я расстроен <…> я сомневаюсь, что ты доволен, врываясь в полярный круг, куда ты, кажется, готовишься <…> Вы едете в Петербург, и мне кажется, как будто вы мигрируете почти на планету Юпитер»[316]. Отрада для Бисмарка была в том, что, Петербург не должен был потребовать от него такого напряжения сил, как Франкфурт-на-Майне. Прежде всего, потому, что этот дипломатический пост потерял особый интерес для Берлина, обратившего все свое внимание в сторону западных стран. В этой связи Бисмарк мог надеяться на некоторую свободу действий. Главное же, в российской столице знали о занимаемой молодым прусским дипломатом позиции в отношении России в годы Крымской войны, поэтому встреча на берегах Невы обещала быть теплой[317].
Бисмарк врывался в заснеженые просторы России зимой 1859 г. как раз в то время, когда на Европу с Апеннинского полуострова надвигалась дипломатическая буря.
Из всех итальянских правительств лишь Сардинское королевство решительно противилось сохранению status quo на Апеннинском полуострове, претендуя на особую роль в самой Италии. Хотя выступление сардинского премьер-министра графа Камилло Кавура на одном из заседаний Парижского конгресса с заявлением о вреде австрийского господства в Италии оказалось практически безрезультатным, сам факт того, что Пьемонт выступил открыто в защиту общеитальянских интересов, произвело большое впечатление на общественное мнение в Италии. С Сардинским королевством стали связывать свои надежды сторонники итальянского национального движения. В туринских донесениях в Петербург граф Эрнест Густавович Штакельберг подчеркивал, что отличительной чертой политики Сардинии было желание возглавить политическую борьбу против Австрии и национальное движение за объединение[318]. Не имея достаточных сил для борьбы против Австрии в одиночку, Италия, по мнению Кавура, должна была опереться на мощных союзников: Францию и Англию.
Эти планы были встречены в Париже со вниманием. Наполеона III волновало усиление международного положения Франции и вывод государства из экономического кризиса, в котором оно оказалось после Восточной войны. Возможность решения этих проблем за счет слабой Австрии казалась довольно привлекательной. Наибольшее неудобство Вене Париж мог доставить как раз в Италии, поскольку агрессивная политика в других чувствительных для Австрии европейских регионах (Польша и Балканы) могла ухудшить отношения с Россией, с которой Франция в это время пока еще заигрывала, раздавая пустые обещания о поддержке в восточном вопросе. План Наполеона III состоял в том, чтобы отобрать у Австрии ее коронную землю: Ломбардо-Венецианское королевство – и передать ее Пьемонту как краеугольный камень в монументе объединения Италии[319] и предмет непрекращающихся споров между Пьемонтом и Австрией в будущем. Франция на самом деле стремилась утвердить свою гегемонию в Италии. На серьезность агрессивных планов императора постоянно обращал внимание российский посол в Париже Павел Дмитриевич Киселев. В депеше Горчакову 8 апреля 1859 г. он отмечал: «Все мысли его величества (Наполеона III – В. Д.) направлены на войну <…> в результате ее он желает увеличить свою мощь для того, чтобы осуществить давно лелеемые проекты. Подходящий случай, который он хочет использовать, это очевидно, итальянская война, цели которой до сих пор далеко еще ясно не поставлены, вследствие чего она еще мало понятна»[320].
Наполеон III приступил к активным действиям после совершенного на него 14 января 1858 г. итальянским патриотом Феличе Орсини покушения в Париже. В письме 11 февраля Орсини призывал Наполеона III ускорить процесс освобождения Италии. После казни Орсини император объявил себя «покровителем» итальянского национального движения. По итогам встречи Наполеона III с К. Кавуром в июле 1858 г. в Пломбьере, на которой император обещал оказать Пьемонту помощь французской армией численностью в 200 000 человек за уступку в пользу Франции Ниццы и Верхней Савойи, в Европе началась тонкая политическая игра. Ее целью была провокация императора Франца-Иосифа и муссирование слухов о возможном нападении на австрийские войска в Верхней Италии.
Характерным сигналом стало обращение французского императора к австрийскому послу в Париже барону Иосифу Александру фон Хюбнеру на балу по случаю Нового 1859 года: «Я сожалею, что наши отношения не так хороши, как бы я хотел, но прошу Вас, тем не менее, передать в Вену, что мои личные чувства к императору остались прежними»[321]. Днем ранее между французским министром иностранных дел Александром Колонна-Валевским и Киселевым состоялась беседа, на которой Валевский поинтересовался, какое содействие окажет Россия Франции, если вспыхнет война с Австрией из-за итальянского вопроса? Российский дипломат отвечал: «Главные основания обоюдных действий при подобной случайности были определены в Штутгарте™, и обещанное содействие будет свято выполнено моим августейшим государем»[322].
Скоро Европа заговорила о предстоящей войне, австрийские ценные бумаги поползли вниз. В прусском парламенте действия Наполеона III начали сравнивать с политикой его дяди, императора Наполеона I. Предполагали, что в складывающихся обстоятельствах эскалация итальянского вопроса будет следующим после Восточной войны актом агрессии французского императора, далее последует вооруженное выступление против Пруссии на Рейне, потом борьба с Англией и в завершение – война против России[323].
Как и во время Крымской войны, теперь в международных отношениях многое стало зависеть от позиции Пруссии. Для руководителей внешнеполитических ведомств Европы было загадкой, каким окажется внешнеполитический курс прусского правительства «Новой эры». В конце 1858 г. великий князь Константин Николаевич передавал в своих письмах Александру II из Европы, что ни сардинский король, ни Кавур, ни Наполеон III не были уверены в образе действий Берлина. Да и в самой Германии все были взволнованы: «Главный предмет разговоров и ожиданий во всей Нимеччине теперь составляет перемена Министерства в Пруссии. Первое впечатление вообще было удивление, второе беспокойство и неизвестность насчет будущего»[324].
Великобритания была заинтересована в примирении Австрии и Пруссии и даже заключении с ними союза, действие которого было бы направлено против намечавшегося российско-французского согласия. Учитывая внешнеполитические взгляды нового окружения принца-регента Вильгельма, такая перспектива была бы встречена в Берлине с пониманием.
Наполеон III также не отставал в этом вопросе. В разговоре с великим князем Константином Николаевичем 22 декабря 1858 г. он высказал свой план утверждения новой системы безопасности в Европе, согласно которому мир на континенте зависел от тесного сотрудничества «сильной России, <…> сильной Франции по краям материка, <…> и полусильной Пруссии с слабой Нимеччиной посредине, которую мы и вдвоем с Францией всегда сможем заставить быть с нами заодно»[325].
Часть этого плана с российскими поправками была успешно реализована в тайном договоре 3 марта 1859 г.[326] «Мы вступили в решительный союз с Франциею, подтвержденный письменным актом»[327], – писал Александр II своему брату Константину. Согласно этим договоренностям, Россия придерживалась позиции нейтралитета в предстоящей войне и выставляла наблюдательный корпус в Галиции, дабы парализовать австрийскую армию на ее северо-восточном фланге и сковать, таким образом, действия Австрии в Италии. В обмен Россия рассчитывала получить поддержку Франции в деле отмены ограничительных статей Парижского мира: о нейтрализации Черного моря и уступке Южной Бессарабии.
Несмотря на сохранение договора в тайне, информация о нем все же была опубликована в английской «The Times» как ответ на попытки России заменить Англию в роли посредника в решении итальянского вопроса. Газетный шум перекинулся в Германию. В общественном мнении германских государств появились страшные картины нападения французов на Рейн, а русских – на Вислу. «Станем бодрствовать и вступим в соглашение»,[328] – предлагал английской королеве Виктории прусский принц-регент Вильгельм.
Пока Бисмарк мчался сквозь вьюгу в Петербург, австрийские, сардинские и французские полки направлялись к возможным театрам боевых действий. Европейские государства готовились к войне, которая угрожала захлестнуть весь континент. Вероятность локализации конфликта зависела от Германии. «Если Германия с Пруссией во главе поймут свое настоящее положение и не будут вмешиваться в дело, которое вовсе до них не относится, и если Англия не перепутает всего своей всегдашней двойственностью, я убежден, что тогда все пойдет хорошо и что мы останемся в покое»[329], – писал российскому императору его брат Константин.
Во фразе: «дело, которое вовсе до них не относится», – как раз и скрывалась вся сложность положения германских государств. Как и в годы Крымской войны, австрийский министр иностранных дел Буоль стремился к тому, чтобы придать предстоящей войне общегерманское значение, заполучить заветную поддержку Германского союза и открыть второй фронт на Рейне.
И это уже не представлялось сложным, поскольку германское общественное мнение было взволновано лозунгами консерваторов, как, например: «По будет защищаться на Рейне». Даже 90-летний Эрнст Мориц Арндт, автор листовок и памфлетов в годы Освободительной войны против Наполеона, вновь взялся за перо. В его воззвании «К немцам!» были следующие слова: «Коли зло случилось, или будет выпущено на свободу, да не посмотрит один немец на другого, а есть ли в его руке шпага, речь же о другом: Пруссия и Австрия! Вся Германия! Да будет так, как было в 1813 и 1814 годах!»[330]. Даже такой закоренелый поборник прусского партикуляризма, каким был историк и национал-либеральный политик Генрих фон Трейчке, взывал о почти неразрешимом разладе: «Должны ли мы склонить итальянский народ под иго старого врага германского единства, переданного нам по наследству, под этот вырождающийся, лживый, поповский дом Габсбургов? Или мы должны поддержать этого Наполеона, который представляет деспотизм другого, но не менее мерзкого, рода?»[331]
Расчет Буоля на вооруженную поддержку германских государств был одновременно и справедливым, и спорным. Прежде всего, австрийский министр обращался к статьям Заключительного акта Венского конгресса 1815 г.[332], согласно которым все германские государства были обязаны оказать военное сопротивление на случай нападения на территорию Германского союза.
Но Ломбардо-Венецианское королевство, коронная земля империи Габсбургов, не входило в состав Германского союза. Согласно 46 статье Заключительного акта Венской конференции министров от 15 мая 1820 г.[333], любая война германских государств за пределами Германского союза должна была рассматриваться как война, чуждая Союзу. Буль находил выход и из этой ситуации. Он обращался к 47 статье, гласившей, что при нападении противника на территорию, не входящую в состав Германского союза, государства-члены Союза могли определить, угрожает ли эта агрессия безопасности Германии. В австрийском прочтении этой статьи, предстоящая война несла угрозу интересам Германского союза. Так, например, мог пострадать входивший в состав Союза Трентино, но совсем угрожающей могла бы считаться мина, подложенная Францией на Рейне.
В желании примерить на себя образ борца за независимость Германии, Австрия фактически стремилась к тому, чтобы втянуть в войну всю Германию, подменяя интересы Германского союза своими собственными национальными интересами.
В Пруссии в этот раз ситуация несколько отличалась от той, что была накануне и в годы Восточной войны. В своем курсе «Новой эры» принц-регент заявил о начале политики «моральных завоеваний» в Германии. Перед Пруссией ставилась задача «добиться такого политического уважения и соотношения сил, которые она не могла бы достигнуть, опираясь на материальные силы»[334]. В достижении этой цели принц-регент прибег к тому средству, за которое Бисмарк боролся с австрийцами в самом начале своей дипломатической деятельности во Франкфурте: свободной печати, дававшей возможность открытой критики австрийской политики в Германском союзе. Обращение прусского правительства к общественному мнению консерваторы считали оппортунистической апелляцией к народному суверенитету, бонапартизму, а либералы – демагогической взяткой народу, игрой на его подлинных национальных интересах.
В выборе направления внешней политики в те дни в Берлине не было единства. Отдельные представители консервативной партии выступали за сближение с Францией, чтобы парализовать тем самым Австрию. Большинство же кабинета, да и сам Вильгельм не хотели превратить Пруссию в инструмент французской политики, но и на предоставление помощи Австрии без ответных уступок они тоже не соглашались. Берлин высказывался против австрийского прочтения 47-й статьи и в случае дальнейшей спекуляции со стороны Вены угрожал решительными действиями вплоть до выхода из Германского союза. Пруссия выдвигала Австрии следующие требования: реформа союзного государства и изменение военного законодательства Германского союза с переходом к Пруссии верховного командования над союзным контингентом войск.
Бисмарк прибыл в Петербург в разгар дипломатической переписки между внешнеполитическими ведомствами европейских держав. Родителям своей супруги он писал, что «над Европой проносятся грозовые тучи, разряжающие свое электричество в перекрестном огне телеграфов»[335].
В поисках мирного разрешения конфликта вся европейская дипломатия была занята подготовкой предстоящего международного конгресса. Вовлеченный в стремительный водоворот событий, Бисмарк жаловался на то, что «конгресс совершенно меня убивает»[336]и даже не остается времени для писем родным. Переговоры об организации этой встречи в верхах начала еще в январе Великобритания, направившая в Вену лорда Коули для урегулирования конфликта.
Возможное английское влияние на французскую политику обеспокоило Петербург – и он вскоре предложил Тюильри свои посреднические услуги. Когда в марте 1859 г. в Париж прибыл граф Коули и привез с собой проект примирительных условий, министр иностранных дел Франции граф А. Валевский передал Киселеву, что их содержание неясно и недостаточно[337]. В ответ на это российский посол официально сделал предложение о конгрессе. В письме великому князю Константину император Александр II писал: «В политике одно только новое, то, что все главные державы согласились на мое предложение конгресса для разъяснения итальянских дел. Дай Бог, чтобы этим мы могли сохранить мир, но я не могу скрыть от тебя, что надежды у меня мало, чтобы удалось достигнуть этого результата»[338].
Миротворческая позиция Александра II и предложенный Петербургом путь имели своей целью максимальное использование возможностей дипломатии для недопущения войны[339]. Вместе с тем Чичерин доказывал, что затянувшиеся по поводу предстоящей встречи в верхах переговоры ослабляли позицию Австрии в Европе и шли на руку французскому императору, который получал возможность подготовиться к войне[340]. Российское предложение о проведении конгресса нашло свой отклик даже у англичан, ущемленных тем, что Петербург обошел их в процессе мирного урегулирования. Посол Великобритании в России баронет Джон Файнс Твислтон Крэмптон «выражал свое убеждение в серьезности и искренности российского содействия сохранению мира»[341].
Эффективность миротворческой политики зависела, однако, от враждующих сторон. Австрия действовала особенно наступательно и враждебно. Горчаков рассказывал Бисмарку, что австрийская пресса «уже смеется над конгрессом, говоря, что он, как нищий, стучится во все двери, чтобы найти себе кров»[342]. Одним из требований созыва конгресса Вена обозначила сокращение сосредоточенного на границе в Италии сардинского войска. Сама же она отказывалась идти на ответные шаги. Горчаков недоумевал: «Лишенные полезной цели предварительные условия Австрии не ставят перед собой никаких других целей, кроме как унизить противника и создать предлог, чтобы отказаться от переговоров. Венский кабинет хочет спровоцировать войну, не возлагая на себя очевидную ответственность. Вот в чем весь смысл этих уловок»[343]. На встрече с прусским и английским дипломатами и французским послом Луи Наполеоном Огюстом Ланном, герцогом де Монтебелло, состоявшейся 6 апреля, Горчаков выказывал свое негодование также и по поводу австрийских споров с определением места проведения конгресса. Он сообщал представителям иностранных государств отношение Александра II ко всем спорным вопросам. По его словам, император был не только «утомлен», но ему «было противно» от тех несущественных возражений, которые возникают относительно предстоящих переговоров. «Россия, – продолжал он, – с самого начала осложнений надеялась оказать противоборствующим сторонам самоотверженную службу. Но если великодушные предприятия, от которых зависит спокойствие Европы, будут разбиты спорами по несущественным вопросам, которые не служат никакой иной цели, как предоставить Австрии предлог для отсутствия на конгрессе, император вернется к чисто наблюдательной позиции»[344].
Отношение к Австрии в Петербурге было и без того прескверное. В одном из своих первых писем жене[345] Бисмарк приводил нелицеприятные сравнения: «О том, как низко упали здесь австрийцы, не имеют ни малейшего представления; ни одна паршивая собака не возьмет из их рук и куска мяса». По его впечатлениям, в российском обществе ожидали лишь момент, чтобы «вонзить австрийцам в спину штык». По его словам, «вся русская политика не оставляет места никакой другой мысли кроме той, каким образом можно уничтожить Австрию». Он дал яркую характеристику отношению Александра II к политике Вены: «Даже спокойный и мягкий император приходит в ярость и гнев, когда говорит об этом».
Особенно расстраивало Петербург то, что апелляция Буоля к национальным чувствам немцев, его попытка заручиться поддержкой Германского союза находили отклик в Германии[346]. Все это вело к расширению зоны конфликта на европейском континенте, а Россия нуждалась в сохранении мира в Европе, так как вовлечение в вооруженное противостояние грозило сорвать задуманные императором преобразования. «Дай Бог, – писал великий князь Константин своему брату Александру II, – чтобы война, в которой я почти что не сомневаюсь, прошла, не коснувшись ее (России – В. Д.), дабы не остановить ее теперешнего развития сословного и промышленного»[347].
Также и Бисмарк обращал внимание Берлина на это. 27 апреля 1859 г. он писал принцу-регенту: «Российское правительство имеет исключительно все основания желать мира <…> беспорядки, которые могли возникнуть в Западной Европе и затруднить получение иностранных капиталов, были бы так же губительны, как непосредственное участие (России – В. Д.) в войне за пределами своих границ»[348]. Учитывая занятую Австрией позицию, Бисмарк сомневался в вероятности мирного урегулирования войны.