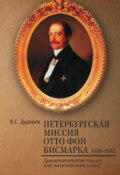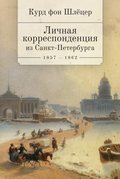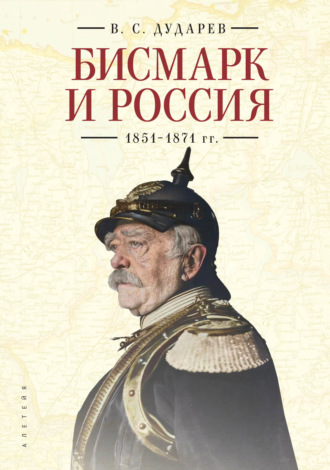
Василий Дударев
Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
Глава I
Образ России в оценке Бисмарка во франкфуртский период его дипломатической деятельности. 1851–1859 гг
Раскрытию поставленной в названии этой главы проблемы поможет рассмотрение внешнеполитических убеждений Бисмарка в период его деятельности на посту прусского представителя в Союзном сейме Германского союза во Франкфурте-на-Майне. Анализ переписки Бисмарка с прусским министром-президентом Отто фон Мантейффелем позволит сделать вывод об оценке прусским дипломатом проводимой по отношению к России политики Берлина и, что более важно, о наличии у него собственной программы действий. Изучение документов Бисмарка времен Крымской войны покажет его мнение о степени подготовки России к военному противостоянию трем державам. Интересным будет рассмотреть восприятие Бисмарком отдельных представителей российского дипломатического корпуса в Германии, с которыми ему приходилось постоянно сталкиваться по ходу своей деятельности. Исследование этих и других вопросов позволит приблизиться к пониманию восприятия Бисмарком прусско-российских отношений в этот период, его видения общей платформы для укрепления связей между двумя государствами. Важным представляется решение вопроса о том, руководствовался ли Бисмарк во внешней политике своими личными симпатиями или интересами прусского государства в том виде, в котором он их понимал, и какую роль в этом принципиальном для политика вопросе занимала Россия. Важным также будет изучение документов других прусских государственных деятелей этого времени, что позволит понять, насколько вообще российское направление было актуальным для Берлина в 1850-е гг.
После завершения революционных потрясений 1848–1849 гг. германский политический ландшафт казался довольно унылым. Провал революции, безуспешное решение назревшего национального вопроса и усиление консервативных начал в прусском государственном механизме происходили на фоне неудач, которые Пруссия переживала на международной арене. Безуспешно для Пруссии завершилась Датско-прусская война 1848–1850 гг. за включение герцогств Шлезвиг и Гольштейн в состав Германского союза, а Ольмюцское соглашение 29 ноября 1850 г. надолго закрывало для
Пруссии перспективу развития объединительных тенденций в Германии под ее главенством. Тяжелый эффект от этих внешнеполитических поражений усугублялся еще и тем, что Пруссия оказалась фактически в оппозиции к великим державам, которые в международных конфликтах становились на сторону её противников. В это время ключевую роль в центральноевропейских делах играла Россия, позиция которой в Ольмюце повлияла на решение австропрусского противостояния в германском вопросе в пользу Австрии. Вследствие этого в Германии к России стали испытывать чувство боязни, граничащее с неприязнью, что прекрасно демонстрирует опубликованное в 1851 г. в популярном берлинском юмористическом журнале «Кладдерадатч»[149] едкое стихотворение «Назад!». Это был сатирический пандан на написанное в начале 1814 г. известное стихотворение основоположника швабской школы романтизма Л. Уланда «Вперед!», в котором поэт взывал к германским государствам и их союзнице России и призывал их освободить Германию от наполеоновских войск и перейти Рейн для разгрома противника. Теперь же Россия представала в образе сурового и грубого надсмотрщика, регулирующего политическую жизнь в Германии:
Прочь! Обратно в Бундестаг!
Россия прочим молвит так!
Назад!
Неизвестный автор такими короткими фразами, более похожими на военные приказы и команды, обращался от имени России ко всем крупным германским государствам:
Внемлет Пруссия бесспорно,
Рада слушаться покорно:
Назад!
Встань ты, Австрия хромая!
Участью иной не обладая!
Назад!
Такие приказы были направлены также в адрес «старой Саксонии», «умной Швабии». С подачи неизвестного автора Россия рекомендовала Швейцарии «вышвырнуть негодяев», очевидно, германских революционеров, скрывавшихся в Швейцарии после 1849 г., обращалась к французскому президенту, чтобы тот протянул ей обе руки в знак дружбы и дальнейшего сотрудничества. Заканчивалось стихотворение также бойко:
Беспрерывно лишь назад!
Добрый ветер, свежий взгляд
Назад!
Назад – военный так звучит приказ!
Назад – все хором грянут враз:
Назад!
В таких обстоятельствах Пруссия едва ли могла рассчитывать на активное участие в обсуждении широкого спектра вопросов общеевропейской повестки дня и вследствие этого на сохранение своего авторитета в международных делах. Официальному Берлину только и оставалось, что сконцентрироваться на внутригерманских проблемах и скромно взирать за тем, как Австрия председательствует в Союзном сейме, заседавшем в столице Германского союза Франкфурте-на-Майне. Великая держава номинально, Пруссия вместе со своими четырьмя голосами имела в Союзном сейме такие же права, как и другие германские королевства: Бавария, Саксония, Ганновер и Вюртемберг.
После произошедших революционных потрясений Берлин принял решение делегировать во Франкфурт человека, который отстаивал бы интересы Пруссии, но не в ущерб компромисса с Австрией. Вселяющие надежду политические способности, преданность королю и Пруссии, особенно проявившиеся в грозные революционные события 1848–1849 гг., темперамент, с которым отстаивались убеждения, и хорошее покровительство в лице предводителя консервативной партии в прусском парламенте генерала Леопольда фон Герлаха помогли Отто фон Бисмарку, помещику из Альтмарка, представителю «крайней правой, охранительной стороны»[150] получить 8 мая 1851 г. назначение на занятие должности советника прусского посольства при Союзном сейме, а спустя чуть больше двух месяцев: 15 июля – должность прусского посланника при Союзном сейме.
Перед прусской миссией во Франкфурте была тогда поставлена основная задача, заключавшаяся в нормализации отношений с Австрией. Это соответствовало широко распространенному в то время в германской общественности мнению, что противостоять вызовам времени, таким как революционная опасность и угроза со стороны Франции, Пруссия может либо в союзе с Россией и Австрией[151], либо только в союзе с Австрией в рамках усиления германских интеграционных процессов[152].
Однако Бисмарк при соблюдении внешне благовидного по отношению к Австрии образа действий и при заверениях в тесной дружбе между двумя дворами с первых дней пребывания в «этой лисьей норе Союзного сейма»[153] стал добиваться дипломатических побед Пруссии над Австрией. В дело даже шли пропуски Бисмарком заседаний Союзного сейма, что блокировало работу Сейма в части обсуждения вопросов и принятия решений[154]. В трех важных вопросах: подготовка законодательства о печати, образование прусского военно-морского флота, а главное, сохранение патронажа Пруссии в Таможенном союзе – Бисмарком была одержана победа[155]. Такие успехи молодого дипломата не могли остаться незамеченными, особенно противниками Пруссии в Союзном сейме. Представители средних германских государств роптали на то, что поведение Пруссии, этого «самого решительного и самого опасного врага Союзной конституции», может обострить австро-прусский спор за главенство в Германском союзе, а сам Союз вернуть в революционное состояние 1849 г.[156] В одном из писем своему брату королю Фридириху-Вильгельму IV прусский принц Вильгельм отмечал: «Все враждебные нам газеты уже твердят, что Б<исмарк> Ш<ёнхаузен> должен уйти, а на его место должен прийти Рохов, что значит: сделать из козла садовника <…> Господь да сохранит нас от такого поражения!»[157]. В средних и мелких германских государствах встречали настороженно разыгрывавшуюся с новой силой политическую борьбу между Австрией и Пруссией[158].
Не осталась она незамеченной и в Петербурге. Для урегулирования конфликта во Франкфурт из Штутгарта был отправлен российский дипломат Александр Михайлович Горчаков, имевший хорошее представление о германских делах. Бисмарк жаловался Мантейффелю на то, что «князь Горчаков прибыл сюда, кажется, для содействия делу мира в Союзном сейме, но его взгляды на события носят явно сильную вюртембергско-австрийскую окраску, которую он приобрел в Штутгарте»[159]. Австрийский представитель во Франкфурте и по совместительству председатель Союзного сейма граф Фридрих фон Тун-Гогенштейн даже и слушать ничего не хотел об этой миссии Горчакова и таком грубом вмешательстве иностранного государства во внутригерманские отношения[160]. Бисмарк был недоволен оценкой Горчаковым своей роли в решении австро-прусских противоречий: «В качестве курьеза, я хочу привести тот факт, что князь Горчаков посредством своего личного влияния рассчитывал содействовать полному примирению между Австрией и Пруссией. Хотя он приписывает эту заслугу не только себе, но и тому обстоятельству, что он является слабым эхом голоса императора»[161]. В действительности, как писал Бисмарк, все спорные вопросы были решены еще до момента приезда князя. Более всего у Бисмарка «вызвало недоумение, что князь Горчаков смотрел на все события, в сущности, сквозь австрийские очки»[162], а перед отъездом передал графу Туну сообщение о результатах своей миссии, что доказывало Бисмарку поддержку Петербургом Австрии в германских делах.
Была ли такая поддержка Австрии основана на личных взглядах Николая I, или того требовали внешнеполитические планы России? В одном из писем Бисмарку прусский посланник в Карлсруэ Карл Фридрих фон Савиньи выразил мнение, что Россия намеренно затягивает Австрию в решение германских вопросов для того, чтобы иметь свободу действий на Балканском полуострове.
Планы России в этом регионе были действительно серьезными. В начале 1850-х гг. российский император Николай I считал возможным военными мерами принудить турецкого султана решить спор о Святых местах в пользу России. В письме фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу 7 января 1852 г. он писал: «Ежели дело примет серьезный оборот, тогда не только приведу 5-й корпус в военное положение, но и 4-й, которому вместе с 15-й дивизией придется идти в Княжества для скорейшего занятия, покуда 13-я и 14-я дивизии сядут на флот для прямого действия на Босфор и Царьград»[163]. О подготовке экспедиции на Босфор он говорил ранее с морским министром А. С. Меншиковым и адмиралом В. А. Корниловым, начальником штаба Черноморского флота. План экспедиции затем был принят[164]. Серьезные намерения Николая I в решении османской проблемы подтверждали и его беседы с посланником Великобритании в Петербурге Дж. Сеймуром в январе – феврале 1853 г.[165]
Бисмарк тоже учитывал балканский фактор в развитии российско-австрийских связей, однако считал более важными взаимоотношения Петербурга и Вены в Центральной Европе: «Я считаю, что Россия действительно заинтересована в том, чтобы ее сосед был занят в Германии, но не настолько, чтобы он распространил свое могущество на всю Германию, поскольку в этом случае он стал бы более сильным соперником в славянских землях и на Дунае»[166]. В письме Савиньи Бисмарк подчеркивал, что Австрия не сможет и не захочет отказаться от своих славянских земель и планов приобретения новых территорий на Балканах и что «без военного принуждения не даст России парализовать себя в устье Дуная или на своих южных границах»[167].
Оценивая политику Николая I, Бисмарк называл ее «более консервативной и тенденциозной, нежели захватнической», и полагал, что российский император «имеет достаточно земель, чтобы быть счастливым, если ему удастся защитить их вопреки течению времени»[168]. Смысл выражения «вопреки течению времени» становится ясным при прочтении строк из письма Бисмарка Савиньи: «Для императора Николая на первом плане стоит не экспансия, а тенденциозная политика и противодействие системе, которую Франция провозгласила бы на своих знаменах в возможной войне[169](но не для внутреннего применения, а для своих соседей)»[170].
Обсуждение этих вопросов в октябре 1852 г. не было случайным. Оно отражало общую обеспокоенность парламентариев Франкфурта событиями на Востоке. В начале февраля 1853 г. Бисмарк писал Мантейффелю: «Господин Прокеш сделал восточный вопрос предметом своего выступления; по его мнению <…> зародыш конфликта для европейских хитросплетений <…> может проистекать из спора о Святых местах между Россией и Францией»[171]. Назначение в конце января 1853 г. известного специалиста по восточному вопросу австрийского барона Антона фон Прокеш-Остена на пост председателя Союзного сейма было встречено в Берлине с настороженностью. По мнению самого Бисмарка, такие изменения демонстрировали повышавшийся интерес Австрии к восточной проблеме, на что должны были обратить внимание Россия и Пруссия. Прусский принц Вильгельм писал своему брату Фридриху-Вильгельму IV, «что это назначение нелепо. Но Прокеш для нас во Ф<ракфурте>-на-М<айне> на длительное время – слишком скверно. Я полностью рассчитываю на энергию и силу Бисмарка, чтобы противостоять ему vis à vis»[172]. В письме Герлаху Бисмарк писал о назначении А. фон Прокеш-Остена следующее: «Я думал о нем как Старый Фриц[169] о первых казаках, которых он видел: „с такими необходимо здесь бороться“»[173].
Принимая во внимание склонность императора Николая I к сотрудничеству с Австрией, Бисмарк считал, что Россия получит от нее в ответ лишь видимые уверения в политике «взаимного доброжелательного попустительства»[174] на Балканах. В это же время, по его мнению, настоящей целью Австрии было укрепление достигнутых в Ольмюце результатов и подготовка к ослаблению влияния России в балканском регионе, для чего предусматривалось пойти на сближение с западными державами.
В условиях назревающего конфликта Бисмарк задумывался о той вероятной роли, которую Пруссии, возможно, предстояло бы сыграть в отношениях с Россией. Еще в начале 1853 г. он писал генералу Л. Герлаху, что лучшим вариантом для Пруссии было бы вести такую политику, при которой «Австрия и Россия добивались бы нашего союза против Франции»[175]. Однако это было практически невозможно. Анализируя формирующийся политический расклад в Европе, принц Вильгельм прогнозировал, что Франция попытается использовать восточный вопрос для сталкивания Австрии и России, чтобы парализовать их силы по другим направлениям[176]. В письме Мантейффелю от 15 июля 1853 г. Бисмарк называл Австрию самым слабым из всех возможных союзников Пруссии в предстоящем конфликте. Он предсказывал, что Австрия пойдет на разрыв с Россией и, вспоминая о российской помощи в подавлении Венгерской революции и заключении Ольмюцского соглашения, называл ее «самой неблагодарной». Бисмарк склонялся к непопулярной в то время в Пруссии мысли о том, что единственным союзником Пруссии была Россия[177]. Еще в 1849 г. прусский надворный советник Луи Шнейдер писал: «Хуже всего то, что Пруссия в нынешние опасные времена не имеет определенного, естественного союзника, на которого могла бы положиться. Самый естественный союзник, которому она с 1813 года обязана беспредельной благодарностью, Россия, отвергается конституционным сумасбродством, которое не хочет иметь дело и союз с самодержавной монархией»[178]. Выбор Бисмарком России ни в коем случае не свидетельствовал о его русофильстве. Главным для него было восстановление авторитета Пруссии в Германском союзе: «В действительности же я вообще не понимаю, почему мы должны преждевременно становиться на чью-то сторону без веских на то причин или лакомой приманки? Вооруженный нейтралитет, возможно с другими немецкими государствами и Бельгией, обеспечил бы нам достойную позицию, соответствующую нашим интересам, и обеспечивающую усиление нашего влияния в Германии»[179].
Политика нейтралитета Бисмарка не соответствовала внешнеполитической программе господствующей в тот момент в прусском парламенте консервативной партии, т. н. «камарильи». Ее наиболее видные представители в лице генерал-адъютанта Фридриха-Вильгельма IV Леопольда фон Герлаха, его брата Эрнста Людвига фон Герлаха, министра культуры и просвещения Пруссии Карла Отто фон Раумера и министра внутренних дел Пруссии Отто Фердинанда фон Вестфаллена выступали за сохранение ставшего традиционным международного сотрудничества Петербурга, Берлина и Вены.
Политический противник камарильи, партия «Еженедельника»[180], лидерами которой были известный юрист Мориц Август фон Бетман-Гольвег, а также прусский дипломат Роберт фон дер Гольц, графы Фюрстенберг-Штаммхайм и Альберт Пурталес, также отвергала политику нейтралитета. Она преследовала основную цель добиться реванша за Ольмюцское поражение. В международных отношениях лидеры партии считали необходимым ориентацию на союз с Англией. Англию считал важной союзницей Пруссии в решении политически вопросов и прусский король Фридрих-Вильгельм IV[181], но более – его брат, принц Вильгельм Прусский[182].
В этих обстоятельствах Бисмарку предстояло сделать выбор в пользу одной из сторон. Консерваторы справедливо ожидали от своего протеже поддержки консервативной политической линии. Как ярый сторонник монархии, борец против либеральных влияний и демократических преобразований в королевстве, Бисмарк всецело поддерживал внутригосударственный курс консерваторов. Однако он совершенно не мог согласиться с их тезисом о необходимости австро-прусского сближения, что означало бы, по его мнению, подчинение прусских интересов австрийской политике. На деле же политика Вены и Берлина все отчетливее вела к тому, что «Союзный сейм превращался в арену раздора»[183].
Бисмарк также отклонил предложение графа Гольца присоединиться к партии «Еженедельника», «поскольку от меня потребовали бы содействия низвержению Мантейффеля. Я отказался, сославшись на то, что занял франкфуртский пост при полном в то время доверии ко мне Мантейффеля; поэтому я счел бы нечестным использовать отношение ко мне короля для низвержения Мантейффеля, пока последний сам не поставил меня перед необходимостью порвать с ним»[184].
Разрешению этой щекотливой ситуации помогла нерешительная позиция самого Фридриха-Вильгельма IV в выборе внешнеполитического курса Пруссии. Он не мог поддержать ни одну из двух партий: «Мой дорогой шурин каждую ночь ложится спать русским, но каждое утро встает англичанином»[185], – шутил по этому поводу Николай I. Принц Вильгельм находил объяснение такому нечеткому занятию Пруссией своей позиции. В письме своему брату, Фридриху-Вильгельму IV он писал: «Ты принял решение идти в восточном вопросе с Англией, не ущемляя вместе с тем наши отношения с Россией, тем самым содействуя тому, чтобы Англия не объединилась с Францией»[186]. Пока такие колебания Фридриха-Вильгельма IV поддерживали политику вялого нейтралитета Пруссии, а находившемуся в Союзном сейме Бисмарку помогали удачно маневрировать между существовавшими в Берлине двумя крайними точками зрения.
Разразившийся в 1853 г. с новой силой между Россией и Францией спор о ключах от Святых мест в Палестине требовал от великих держав определиться со своей позицией в предстоящем противостоянии. Более всего в это время в высших прусских политических кругах беспокоились о том, чтобы «не разрушилось согласие между Англией и Пруссией», которое положительно оценивалось как в Берлине, так и в Лондоне[187].
С июля 1853 г. посредническую роль в процессе мирного урегулирования конфликта взяла на себя Вена. Правда, по словам Г. В. Чичерина, «под личиной предложения о „непосредственных переговорах между Россией и Турцией“, мысль о заявлениях держав по Восточному спору <…> все более превращалась в подчинение Восточных дел европейскому приговору с центральной ролью Вены»[188].
Уже 5 декабря 1853 г., спустя почти два месяца с начала боевых действий между Турцией и Россией, в австрийской столице были подписаны нота и протокол, основным смыслом которых явилась гарантия сохранения status quo в области территориальных изменений со стороны Англии, Франции, Австрии и Пруссии. Восточный вопрос, таким образом, связывался с европейским равновесием сил. Результатами этой конференции был недоволен Бисмарк. В письме генералу Герлаху 18 декабря 1853 г. он писал: «Мне неприятно, что мы подписали в Вене протокол и все же втянули себя в кампанию против России». Бисмарк видел в этом далеко идущие последствия. «Какой был интерес в том, чтобы совершить такой шаг, и что мы будем иметь от охлаждения отношений с Россией?»[189] – спрашивал он. Переговоры 5 декабря все сильнее притягивали Пруссию к курсу австрийской внешней политики. Бисмарк писал: «Каждый раз, когда нам из Вены протягивают братскую руку, у меня создается впечатление, как будто там у них чесотка, и они хотят этим самым рукопожатием заразить нас, поскольку вдвоем держаться легче»[190].
В конце декабря 1853 г. Бисмарк пришел к выводу, что «сохранение мира между Россией и Западными державами более не представляется возможным»[191]. Однако в это время в его донесениях отразилась информация о готовящейся в международных отношениях сенсации – сближении России и Франции. В Германии такое сближение считали просто невозможным, поскольку эти два государства ассоциировались с противоположными политическими направлениями: Россия – с «реакцией», Франция – с «демократией»[192]. Предостерегая Берлин от поспешных шагов, продолжающих втягивать Пруссию в конфликт, он писал Герлаху 19/20 декабря 1853 г.: «Между Россией и Францией состоится сближение, что для российского императора было бы самым очевидным выходом, в случае если мы подольем еще больше масла в огонь»[193]. В донесении Мантейффелю Бисмарк отмечал, что «англичане усердно выведывают о симптомах возможного сближения России и Франции, посредником которого является вюртембергский кронпринц»[194]. Не следует забывать, что в Штутгарте находился российский посланник Горчаков, который также мог содействовать сближению между двумя странами. Как отмечали Чичерин[195], Зайончковский[196] и Тарле[197], Франция, действительно, делала подвижки в сторону России.
Обращая внимание Берлина на возможность улучшения отношений между Францией и Россией, Бисмарк продолжал доказывать, что ориентация на Австрию являлась ошибочной и что интересам Пруссии могли послужить только дружеские отношения с Россией: «Россия для нас – самая дешевая и общедоступная из всех континентальных держав, поскольку жаждет лишь расширения на Восток, две же другие[198] – только за наш счет»[199]. Он злился, когда такую простую, на его взгляд, комбинацию отказывались понимать в Берлине.
Эти вопросы были затронуты Бисмарком в начале 1854 г. в разговоре с российским поверенным в делах во Франкфурте Д. Г. Глинкой, заявившим, что «Россия не считает себя настолько несправедливой, чтобы ожидать от Пруссии материальной поддержки в деле, которое далеко отстоит от прусских интересов, однако она была бы удовлетворена, если бы Пруссия не позволила склонить себя к враждебным по отношению к ней действиям»[200]. Бисмарк полностью поддерживал эту мысль, считая, что у Берлина не было никаких спорных вопросов в отношениях с Петербургом.
Более открыто о своем видении прусско-российских отношений Бисмарк высказался в это время в личном письме Герлаху: «Безусловно, верная мысль о том, что для Пруссии не представляет никакого интереса отдать свою, прусскую кровь и деньги на осуществление российских целей»[201]. Он призывал поступить хитро в этой ситуации. Учитывая открытое выступление европейских держав против России, Бисмарк называл «ошибочным особо подчеркивать прусскую политику отказа (от тесных связей с Россией – В. Д.) и демонстрировать, что мы сделали это с некоторым удовольствием, да еще и вести себя при этом решительно смело и молодцевато»[202]. Реализация совета Бисмарка могла бы способствовать формированию образа оскорбленного в Ольмюце, но все же преданного союзника России, что подняло бы статус Пруссии в российском обществе. Пруссия, однако, продолжала колебаться. Как позже вспоминал депутат Харфорт, во время Восточной войны в прусском парламенте была некоторая растерянность, поскольку считали, что «идти вместе с Россией – это было бы сродни отцеубийству, а идти против неё – ну, тогда было довольно мало людей, которые считали, что мы разделяем такую точку зрения»[203].
Прусский колеблющийся нейтралитет уже в это время неожиданно получил положительную оценку от западных держав. Однажды Бисмарк попал в неловкое положение, о чем сообщил Герлаху в письме: «Было неожиданностью услышать от французского посланника в Касселе выражение благодарности мне от лица всей Франции за наше нейтральное положение, которое спасло бы Европу от большой беды и «локализовало» бы конфликт восточным театром действий»[204].
На этом фоне Бисмарк еще больше стал опасаться того, что Пруссия откажется от политики нейтралитета и перейдет в стан противников России. В донесении Мантейффелю 15 февраля 1854 г. он писал: «Было бы страшно, если бы мы искали перед надвигающейся бурей защиту в том, чтобы привязать наш нарядный и приспособленный к длительному плаванию фрегат к старой изъеденной червями австрийской посудине»[205]. Целью такого «длительного плавания» прусского «фрегата», конечно же, являлся далекий германский горизонт, быстро достичь который мешала та самая австрийская «посудина». Даже в недружественной Пруссии Саксонии отмечали, что «вот уже несколько лет <…> королевское прусское правительство постоянно демонстрирует своей целью слияние своих собственных интересов с интересами Германии»[206].
Для Бисмарка было важно узнать отношение России к занимаемой Пруссией позиции. Из личных бесед с российскими дипломатами во Франкфурте он сделал вывод, что «Россия находится в лучших отношениях к нам, нежели к Австрии, и еще будет пребывать в них», несмотря на поведение германской прессы и, что более удивительно, отклонение российского проекта сохранения германскими государствами нейтралитета. В феврале 1854 г. Орлов в Вене и Будберг в Берлине вели переговоры с германскими правительствами о подписании проекта протокола, по которому Пруссия и Австрия соглашались соблюдать строгий нейтралитет, а остальные 3 державы становились гарантами целостности их территории. Когда Франц-Иосиф потребовал от Орлова гарантий того, что в результате русско-турецкой войны не произойдет восстание христианских народов, российский представитель их предоставить не смог. В донесениях в Берлин Бисмарк, ссылаясь на российского уполномоченного Глинку, также сообщал о том, что «российское военное руководство не может отказаться от преимуществ, которые обеспечивали бы ему симпатии греко-славянского населения и возникающие на их основе национальные выступления»[207].
Опасность возмущения восточных провинций империи побудила Франца-Иосифа отклонить предлагаемый Россией проект, что подтверждало отказ от политики «доброжелательного нейтралитета» лета 1853 г. Переход Австрии в стан противников России стал очевидным. Пруссия фактически тоже отклонила предложения России. Ее положение, однако, отличалось от австрийского. Если Франц-Иосиф заявлял, что будет руководствоваться интересами своей монархии, то Фридрих-Вильгельм IV подчеркивал, что не даст вовлечь себя в войну против России[208].
Бисмарк был удивлен таким исходом миссии графа Орлова, но считал его положительным для интересов Пруссии, поскольку она не разрывала отношения с Россией. В письме Мантейффелю он повторял: «Не вижу никаких мотивов, чтобы каким-либо способом умышлено увеличивать между нами и Россией трещину, которая и могла непреднамеренно возникнуть при расхождении в наших интересах»[209].
Однако на фоне вступления 27 марта 1853 г. в русско-турецкую войну Великобритании и Франции дипломатическая «трещина» между двумя странами, которой так боялся Бисмарк, стала увеличиваться. Этому также способствовало подписание четырьмя державами нового венского протокола 9 апреля 1854 г.[210] (вошедшего затем в основу Парижского трактата) и выгодного австрийской стороне[211] австро-прусского союзного договора 20 апреля 1854 г., против которого выступила Россия[212].
В этой связи представляется важным обратить внимание на две диаметрально противоположные точки зрения в отношении договора 20 апреля, вернее, его значения для Пруссии. Так, прусский принц Вильгельм писал своему брату, Фридриху-Вильгельму IV: «Пруссия при этом не должна забыть, мне бы этого хотелось, что договор 20 апреля был подписан ею как великой державой, в интересах Европы, что Германия была лишь приглашена присоединиться к нему, что тем самым европейские интересы стоят для Пруссии на первом месте, а (интересы – В. Д.) Германии – лишь на 2-м месте»[213].
Разительно отличалась от такой точки зрения позиция Бисмарка. Прусский дипломат считал ошибочным культивировать образ великий державы фактом участия в подписании европейского договора, положения которого не соответствовали истинным государственным интересам Пруссии. Не видимость участия в европейских делах, а отстаивание собственных целей в международных отношениях соответствовало, по мысли Бисмарка, статусу великой державы. В этой связи прусский дипломат полагал, что договор 20 апреля противоречил государственным интересам Пруссии, поскольку осложнял прусско-российские отношения. В наброске сообщения, предположительно, Мантейффелю, он писал следующее: «Устье Дуная представляет для Германии очень малый интерес. Адриатическое море, господство Англии над Ионическими островами и Мореей – в 10000 раз меньше»[214].
В своих воспоминаниях Бисмарк делился разработанным им в то время контрпланом: «Выставить «66 тысяч человек <…> не у Лиссы, а в Верхней Силезии, чтобы наша армия могла перейти одинаково легко как русскую, так и австрийскую границу, в особенности, если мы не постесняемся и выставим негласно гораздо более 100 тысяч человек. Имея в своем распоряжении 200 тысяч человек, его величество был бы в тот момент господином всей европейской ситуации, мог бы продиктовать условия мира и занять в Германии положение, вполне достойное Пруссии»[215].
Этот план учитывал и российские интересы. Бисмарк писал, что расквартированная русская армия в 200 тысяч человек могла быть переброшена в Крым, «она бы приобрела решающее влияние на создавшуюся там ситуацию, но положение на австрийской границе не позволяло осуществить такой поход». Русская и австрийская армии стояли на границе друг против друга, блокируя взаимные передвижения. И хотя в таком случае «Пруссия имела возможность дать своим содействием перевес любой из них»[216], Бисмарк считал, что, вне всякого сомнения, логичным было бы выступить на стороне России. Он писал Мантейффелю: «Необходимо всеми средствами оградить нас от любого выступления против России, поскольку с первым пушечным выстрелом в ее сторону мы окажемся в зависимости от возможности договоренности между Парижем и Петербургом»[217].